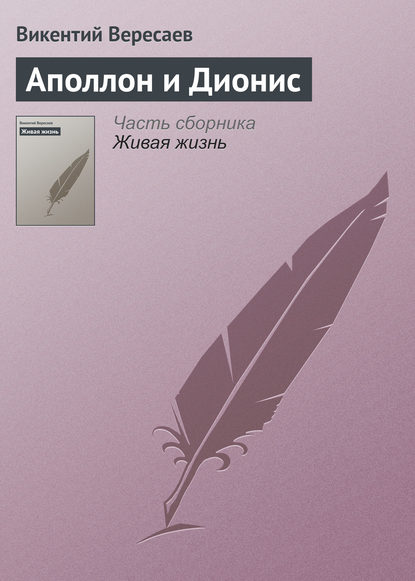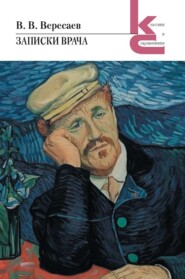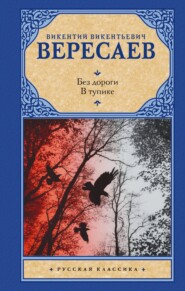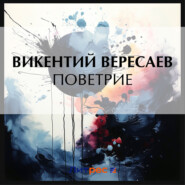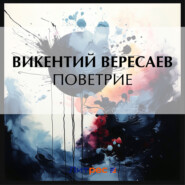По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Аполлон и Дионис
Жанр
Серия
Год написания книги
1914
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этот стыд – aidos, – прочно живет в душах гомеровских эллинов. Нищие, странники, бездомные беглецы называются у Гомера трогательным словом aidoioi, – вызывающие в людях стыд.
И замечательно: обожествляя все решительно вокруг себя, гомеровский эллин не обожествил этого стыда, а оставил его при себе, как свое изначальное, внутреннее, ему присущее свойство. Только много позже – впервые у Гесиода – этот стыд превращается в богиню Айдос или Айдо, «сидящую на троне вместе с Зевсом» (Софокл).
«Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? – спрашивает Заратустра. – Зачем так мало рока во взоре вашем? Злое – лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее». В «Ессе homo» Ницше разъясняет истинный смысл своего сверхчеловека, мало кем понятого. «Слово сверхчеловек для обозначения типа самой высокой удачности, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, – почти всюду было понято в полной невинности, как «идеалистический» тип высшей породы людей, как полусвятой, как полугений». И с искушающею улыбкою дьявола Ницше наклоняется к читателю и «шепчет ему на ухо»:
– Скорее уже можно в нем видеть… Цезаря Борджиа!
Услышит это Аполлон и с омерзением отшатнется от Ницше: если лютый, не знающий стыда Ахиллес – дикий лев, то ведь Цезарь Борджиа – просто подлая гиена, а «радость и невинность зверя» есть и в гиене, хотя она и питается падалью. Но вглядится Аполлон попристальнее в грозное лицо Ницше, вглядится – и рассмеется, и махнет рукою, и пренебрежительно повернется к нему спиной.
Как мало «рока» в этом напряженно-грозном взоре! Ведь это же просто – добрый человек, ужасно добрый человек, с сердцем, «почти разрывающимся от сострадания». Вот почему он и делает такое свирепое лицо. Вот почему ему и нужен – не Гарибальди, а непременно Цезарь Борджиа. Бояться пролить кровь дикой козы, – о, на это очень способен и сам Ницше! А вот двинуть на смерть тысячи людей, взяв на свою душу всю ответственность за это, а вот расстрелять человека…
Итак, да здравствует Цезарь Борджиа!
Помните вы, как Иван Карамазов, решив принести на суде повинную, идет ночью по улице и наталкивается на замерзающего в снегу мужичонку? Два часа назад сам же Иван толкнул его в снег. Теперь Иван суетится вокруг мужичонки, сзывает людей, старается его спасти. «Иван Федорович остался очень доволен.
– Если бы не было взято так твердо решение мое назавтра, – подумал он вдруг с наслаждением, – то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо и только плюнул бы на то, что он замерзает!»
Когда человек, в котором мало «бронзы», вступает в область «по ту сторону добра и зла», то он, так сказать, «по долгу службы» почему-то считает себя обязанным быть непременно злым, злым во что бы то ни стало. В снегу замерзает человек? Пройди мимо и только плюнь – иначе ступишь опять «по сю сторону».
Да! Да здравствует именно Цезарь Борджиа! Самое коренное зло нашей современности – что люди ужасно добры. «В ком лежит величайшая опасность для всей будущности человека? – спрашивает Заратустра. – Не в добрых ли и справедливых? О, братья мои, зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Станьте твердыми!»
Но – боже мой! Где же вокруг видел Ницше этих добрых и мягких? Чему они помешали, что задержали? Кто творил вокруг Ницше реальную жизнь? Бисмарк и Лассаль, Ротшильд и Маркс, Наполеон III и Гарибальди, Галлифе и Бланки, Абдул-Гамид и Биконсфильд, Муравьев-Виленский и Чернышевский, Победоносцев и Желябов, – какие всё «мягкие»! Какие всё «добрые»! Неужели вправду величайшею угрозою для века этих людей был… Диккенс, что ли?
«Сострадание признал я более опасным, чем любой порок», – заявляет «твердый» человек, сердце которого готово разорваться от сострадания при виде ужасов жизни.
В «Ессе homo» Ницше говорит: «Заратустра определил однажды, со всею строгостью, свою задачу – это также и моя задача: он есть утверждающий вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего». Ницше имеет в виду следующие слова Заратустры:
Искупить в человеке его прошлое и пересоздать всякое «так было», пока воля не скажет: «Но ведь так я и хотел! Так буду я хотеть!» – это назвал я искуплением. Это одно научил я их называть искуплением».
Казнь Сократа и Бруно, Варфоломеева ночь, наш еврейский погром, Азеф, процесс Бейлиса, изнасилованная девочка, затравленный барскими собаками крестьянский ребенок, – «так я и хотел? Так буду я хотеть?» Это-то есть истинная «твердость», это – «рок во взоре»? О, нет. «Укрощать свой дух перед неизбежностью» – еще не значит оправдывать неизбежность. Живой человек бодро и радостно несет жизнь не потому, что оправдывает ее ужасы и гадости, а потому, что сила жизни не дает ему прийти от них в отчаяние. Среди ужасов, которые видит Пьер Безухов во время своего плена, его охватывает «чувство радости и крепости жизни», «чувство готовности на все, нравственной подобранности». «Пьеру было страшно. Но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни».
Это глубоко аполлоновское настроение совершенно непонятно «твердым» людям типа Ницше. Для них одно из двух: либо разбей голову об стену от отчаяния и ужаса перед жестокостью жизни, либо – возьми себя в руки, внуши себе: «Я рок, я буря, я вихрь!» – и, глядя на жестокости жизни, скажи: «Да, так я и хотел, так буду я хотеть!»
В своей автобиографии Ницше пишет:
«Я – декадент, и в то же время я – противоположность декадента. Происхождение мое двойственное, как бы с верхней и нижней ступени жизненной лестницы: поскольку во мне мой отец, я уже умер, поскольку – моя мать, я еще живу и мужаю. Мой отец был хрупким, добрым и болезненным существом, – он был скорее воспоминанием о жизни, чем самою жизнью… От болезненной оптики – к здоровым понятиям и ценностям и, обратно, из полноты и самосознания богатой жизни низводить свой взор в тайную работу инстинкта декаданса, – в этом я особенно опытен».
Ницше видел в таком своем положении большое преимущество. «Этим, – говорит он, – объясняется тот нейтралитет, та независимость во всех вопросах жизни, которыми я, по-видимому, выделяюсь».
Да, для исследователя такое двойственное положение, может быть, и выгодно: каждый отдельный вопрос он способен охватить более всесторонне, если имеет возможность смотреть на него то с верхней, то с нижней ступени жизненной лестницы. Но для человека, но для единства общего его мироотношения такое положение просто невозможно. Невозможно стоять одновременно на верхней и нижней ступеньке лестницы, невозможно решать из себя коренных вопросов жизни, когда душа состоит из двух половин, друг другу враждебных и противоположных, когда одна половина здорова и трепещет жизнью, а другая источена гнилыми инстинктами декаданса. Переживания обеих половин спутаются, и получится не стройное целое, а мешанина, с которою меньше всего можно жить. Получится та «биологическая фальшивость», то сидение между двумя стульями, которые Ницше считает столь характерными для ненавистной ему современности.
«Типичный декадент, – говорит Ницше, – умеет заставить смотреть на свою испорченность как на закон, как на прогресс, как на завершение». Отличие Ницше от других декадентов заключается именно в том, что он ни под каким видом не согласен принять своей «испорченности», совершенно не доверяет ее внушениям и все время чутко прислушивается к себе, все время следит за собою, – как бы не попыталась в нем творить жизненные ценности его «испорченность».
«Сам я не более, как обломок, – с грустью пишет Ницше своему другу Рэ, – и только в редкие, редко-счастливые минуты дано мне заглянуть в лучший мир, где проводят дни свои цельные и совершенные натуры».
И Ницше крепко держится за эти редкие минуты, старается отрешиться от себя и заглушить мрачные похоронные песни, которые поет его увечная душа. Ей нельзя верить, нельзя позволить ей обмануть себя и его. «Я сделал свою волю к здоровью, свою волю к жизни своей философией, – рассказывает он. – Годы полного падения моей жизненной силы и были теми, когда я перестал быть пессимистом: инстинкт самосохранения воспретил мне философию нищеты и уныния».
Позиция очень опасная. Человек не творит своего мироотношения свободно, из своей сущности, а старается пройти мимо самого себя, выскочить, говоря словами Ницше, «из собственной шкуры». Трудно в таких условиях создать цельное, не противоречивое мироотношение. И мы это видим на Ницше. В одних случаях – творчество «от противоположного», резкое и решительное провозглашение того, чего как раз не чувствует собственная душа. В других случаях, где не успел доглядеть настороженный взгляд не доверяющего себе человека, – творчество прямое, точно отражающее первоначальную «испорченность». Прочный колокол неведения – и благословляющее утверждение бездн, «преодоление человека» – и санкция его упадочных инстинктов, великая любовь Заратустры – и нарочито разжигаемая им в себе жестокость, проповедь радости жизни – и восхваление трагического пристрастия к страданиям и ужасам – все это, конечно, можно психологически объяснить, но совершенно невозможно все это объединить в одно цельное, из «бронзы» отлитое жизнеотношение.
Сойдя с ума, Ницше послал своему другу, музыканту Петеру Гасту, такую записку:
Моему maestro Pietro. Спой мне новую песню.
Мир ясен, и все небеса радуются.
Распятый.
Эту новую песню сам Ницше и пропел миру. Пригвожденный ко кресту, со смертною мукою и отчаянием в душе, он славил ясность мира и радость небес. Только такую радость он и знал. Только так смог он понять и радость аполлоновского эллина: что такое светлый мир его божеств? Не больше, как «восхитительные видения истязуемого мученика».
Аполлон мог на минуту обмануться, слыша мужественные призывы Ницше к верности земле и к светлой радости жизни. Но достаточно было ему взглянуть на это искаженное мукою лицо, на эти экстатические глаза, полные радости, «которую знает только самый страдающий», чтобы сказать: «Нет, этот – не из моих сынов, не из моих учеников и сопричастников». И с суровым равнодушием Аполлон отвернулся от него.
Ницше однажды сказал про ненавистных ему христиан: «Христианином не делаются: надо быть достаточно больным для этого». Обратное мог бы сказать Аполлон про самого Ницше: «Аполлоновским человеком не делаются: надо быть достаточно здоровым для этого».
X
Трагедия Ницше
Якоб Буркгардт отмечает одну характерную особенность бога Диониса. «От всех других эллинских божеств, – говорит он, – Дионис отличается, между прочим, тем, что он фанатическим образом требует своего прославления и признания; он один проявляет заботу и ярость, когда ему повсюду не служат».
Действительно, мифы о Дионисе полны рассказами о жестоких карах, которые обрушивает Дионис на смертных, его не признающих. Saeva laesi numinis ira (страшный гнев оскорбленного божества. – Овидий) уничтожает непокорных. Дионис все время как будто говорит человеку: «горе тебе и гибель, если ты не признаешь меня богом!» Олимпийским богам такое требование совершенно чуждо. Они, конечно, жестоко мстят людям за частные обиды, но им просто даже не приходит в голову мысль, что кто-нибудь может их отрицать, не признавать.
Эта особенность Диониса многознаменательна. Можно объяснять ее тем, что Дионис позже других богов пришел в Элладу, что ему приходилось постепенно завоевывать то признание, каким естественно пользовались боги олимпийские. Однако особенность эта в то же время глубоко лежит в самом существе Диониса.
Вера, при которой божество исходит непосредственно из жизни, – аполлоновская вера Гомера, Франциска Ассизского, Гёте, Толстого, Уолта Уитмена, Рабиндраната Тагора, – вера эта не требует обязательно от человека формального признания божества. Душа переполнена жизнью, переполнена блаженным ощущением огромной и таинственной ее значительности. Ощущение этой огромности пытаются обыкновенно выразить в случайных и совершенно нехарактерных терминах пространства и времени, говорят об ощущении «бесконечного», «вечного». Но гораздо, по-моему, правильнее называть ощущение этой дух захватывающей огромности ощущением божественного. Из этого-то именно чувства и рождаются благороднейшие элементы всякой религии.
Так вот. Если душа человеческая переполнена ощущением божественности жизни, то важно ли, как назовет человек это ощущение? Гретхен спрашивает Фауста:
Скажи мне, веруешь ты в бога?
И она уверена, что точный и решительный ответ на этот вопрос ужасно важен. А Фауст только мягко улыбается и просто отстраняет вопрос.
Ты видишь, как приветливо над нами
Огнями звезд горят ночные небеса?
Не зеркало ль моим глазам твои глаза?
Не все ли это рвется и теснится
И в голову, и в сердце, милый друг,
И в тайне вечной движется, стремится
Невидимо и видимо вокруг?
Пусть этим всем исполнится твой дух,
И если ощутишь ты в чувстве том глубоком
Блаженство, – о! тогда его ты назови
Как хочешь: пламенем любви,
Душою, счастьем, жизнью, богом, –
Для этого названья нет:
Все – чувство. Имя – звук и дым…
В душе аполлоновского человека прочно живет это блаженное ощущение непрерывного светлого таинства, видимо и невидимо творящегося вокруг него. А назвать ли это ощущение счастьем, назвать ли жизнью, назвать ли богом – не все ли равно? Интеллектуальная совесть одного скажет: это живой, самостоятельно существующий бог. Интеллектуальная совесть другого скажет: это – только известное душевное состояние, быть может, совершенно обманчивое, хотя и блаженное ощущение прочной связи с целым. Но что же из того, что обманчивое? Это блаженство, эта связь ярко ощущается человеком, как матерью ощущается связь ее с ребенком. Не все ли равно для матери, «обманчиво» ощущение этой связи, или связь реально существует? То же и тут. Существо отношения человека к жизни мало изменится от того, будет ли у него одна теория познания или другая. «Жизнь есть все, жизнь есть бог», – говорит у Толстого Пьер Безухов. Признающий жизнь тем самым признает и бога, хотя, может быть, и сам об этом не знает. Формальная вера в бога имеет здесь значение второстепенное.
Герои Толстого, например, очень легко распределяются на две резко обособленные группы, людей живых и мертвых, по признаку, есть ли в них сила жизни, или нет. Но совершенно невозможно разделить их, руководствуясь признаком, верят ли они в бога. Как с первого раза ни странно, но этим признаком всего менее определяется душевная жизнь толстовских героев. Вот живые люди, цельно принимаемые душою Толстого: Платон Каратаев верит в православного бога, Хаджи-Мурат – в Аллаха; дядя Ерошка, хотя в бога и верит, но думает: «Сдохнешь, – трава вырастет на могиле, вот и все»; Наташа Ростова к богу равнодушна; революционер Набатов – атеист. Но у всех их одинаково – живое, глубоко религиозное отношение к жизни, в душах всех одинаково живет Бог-Жизнь. И это объединяет всех столь различных людей в одну группу людей живых. Бог их совсем не нуждается, чтоб ему говорили: «Да, ты существуешь!» Для людей с таким жизнеотношением вопрос о существовании бога никогда не может стать основным вопросом и трагедией жизни: назван ли бог человеком или нет, – он все равно непрерывно живет в душе человека.
И замечательно: обожествляя все решительно вокруг себя, гомеровский эллин не обожествил этого стыда, а оставил его при себе, как свое изначальное, внутреннее, ему присущее свойство. Только много позже – впервые у Гесиода – этот стыд превращается в богиню Айдос или Айдо, «сидящую на троне вместе с Зевсом» (Софокл).
«Зачем так мягки, так покорны и уступчивы? – спрашивает Заратустра. – Зачем так мало рока во взоре вашем? Злое – лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее». В «Ессе homo» Ницше разъясняет истинный смысл своего сверхчеловека, мало кем понятого. «Слово сверхчеловек для обозначения типа самой высокой удачности, в противоположность «современным» людям, «добрым» людям, – почти всюду было понято в полной невинности, как «идеалистический» тип высшей породы людей, как полусвятой, как полугений». И с искушающею улыбкою дьявола Ницше наклоняется к читателю и «шепчет ему на ухо»:
– Скорее уже можно в нем видеть… Цезаря Борджиа!
Услышит это Аполлон и с омерзением отшатнется от Ницше: если лютый, не знающий стыда Ахиллес – дикий лев, то ведь Цезарь Борджиа – просто подлая гиена, а «радость и невинность зверя» есть и в гиене, хотя она и питается падалью. Но вглядится Аполлон попристальнее в грозное лицо Ницше, вглядится – и рассмеется, и махнет рукою, и пренебрежительно повернется к нему спиной.
Как мало «рока» в этом напряженно-грозном взоре! Ведь это же просто – добрый человек, ужасно добрый человек, с сердцем, «почти разрывающимся от сострадания». Вот почему он и делает такое свирепое лицо. Вот почему ему и нужен – не Гарибальди, а непременно Цезарь Борджиа. Бояться пролить кровь дикой козы, – о, на это очень способен и сам Ницше! А вот двинуть на смерть тысячи людей, взяв на свою душу всю ответственность за это, а вот расстрелять человека…
Итак, да здравствует Цезарь Борджиа!
Помните вы, как Иван Карамазов, решив принести на суде повинную, идет ночью по улице и наталкивается на замерзающего в снегу мужичонку? Два часа назад сам же Иван толкнул его в снег. Теперь Иван суетится вокруг мужичонки, сзывает людей, старается его спасти. «Иван Федорович остался очень доволен.
– Если бы не было взято так твердо решение мое назавтра, – подумал он вдруг с наслаждением, – то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо и только плюнул бы на то, что он замерзает!»
Когда человек, в котором мало «бронзы», вступает в область «по ту сторону добра и зла», то он, так сказать, «по долгу службы» почему-то считает себя обязанным быть непременно злым, злым во что бы то ни стало. В снегу замерзает человек? Пройди мимо и только плюнь – иначе ступишь опять «по сю сторону».
Да! Да здравствует именно Цезарь Борджиа! Самое коренное зло нашей современности – что люди ужасно добры. «В ком лежит величайшая опасность для всей будущности человека? – спрашивает Заратустра. – Не в добрых ли и справедливых? О, братья мои, зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Станьте твердыми!»
Но – боже мой! Где же вокруг видел Ницше этих добрых и мягких? Чему они помешали, что задержали? Кто творил вокруг Ницше реальную жизнь? Бисмарк и Лассаль, Ротшильд и Маркс, Наполеон III и Гарибальди, Галлифе и Бланки, Абдул-Гамид и Биконсфильд, Муравьев-Виленский и Чернышевский, Победоносцев и Желябов, – какие всё «мягкие»! Какие всё «добрые»! Неужели вправду величайшею угрозою для века этих людей был… Диккенс, что ли?
«Сострадание признал я более опасным, чем любой порок», – заявляет «твердый» человек, сердце которого готово разорваться от сострадания при виде ужасов жизни.
В «Ессе homo» Ницше говорит: «Заратустра определил однажды, со всею строгостью, свою задачу – это также и моя задача: он есть утверждающий вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего». Ницше имеет в виду следующие слова Заратустры:
Искупить в человеке его прошлое и пересоздать всякое «так было», пока воля не скажет: «Но ведь так я и хотел! Так буду я хотеть!» – это назвал я искуплением. Это одно научил я их называть искуплением».
Казнь Сократа и Бруно, Варфоломеева ночь, наш еврейский погром, Азеф, процесс Бейлиса, изнасилованная девочка, затравленный барскими собаками крестьянский ребенок, – «так я и хотел? Так буду я хотеть?» Это-то есть истинная «твердость», это – «рок во взоре»? О, нет. «Укрощать свой дух перед неизбежностью» – еще не значит оправдывать неизбежность. Живой человек бодро и радостно несет жизнь не потому, что оправдывает ее ужасы и гадости, а потому, что сила жизни не дает ему прийти от них в отчаяние. Среди ужасов, которые видит Пьер Безухов во время своего плена, его охватывает «чувство радости и крепости жизни», «чувство готовности на все, нравственной подобранности». «Пьеру было страшно. Но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни».
Это глубоко аполлоновское настроение совершенно непонятно «твердым» людям типа Ницше. Для них одно из двух: либо разбей голову об стену от отчаяния и ужаса перед жестокостью жизни, либо – возьми себя в руки, внуши себе: «Я рок, я буря, я вихрь!» – и, глядя на жестокости жизни, скажи: «Да, так я и хотел, так буду я хотеть!»
В своей автобиографии Ницше пишет:
«Я – декадент, и в то же время я – противоположность декадента. Происхождение мое двойственное, как бы с верхней и нижней ступени жизненной лестницы: поскольку во мне мой отец, я уже умер, поскольку – моя мать, я еще живу и мужаю. Мой отец был хрупким, добрым и болезненным существом, – он был скорее воспоминанием о жизни, чем самою жизнью… От болезненной оптики – к здоровым понятиям и ценностям и, обратно, из полноты и самосознания богатой жизни низводить свой взор в тайную работу инстинкта декаданса, – в этом я особенно опытен».
Ницше видел в таком своем положении большое преимущество. «Этим, – говорит он, – объясняется тот нейтралитет, та независимость во всех вопросах жизни, которыми я, по-видимому, выделяюсь».
Да, для исследователя такое двойственное положение, может быть, и выгодно: каждый отдельный вопрос он способен охватить более всесторонне, если имеет возможность смотреть на него то с верхней, то с нижней ступени жизненной лестницы. Но для человека, но для единства общего его мироотношения такое положение просто невозможно. Невозможно стоять одновременно на верхней и нижней ступеньке лестницы, невозможно решать из себя коренных вопросов жизни, когда душа состоит из двух половин, друг другу враждебных и противоположных, когда одна половина здорова и трепещет жизнью, а другая источена гнилыми инстинктами декаданса. Переживания обеих половин спутаются, и получится не стройное целое, а мешанина, с которою меньше всего можно жить. Получится та «биологическая фальшивость», то сидение между двумя стульями, которые Ницше считает столь характерными для ненавистной ему современности.
«Типичный декадент, – говорит Ницше, – умеет заставить смотреть на свою испорченность как на закон, как на прогресс, как на завершение». Отличие Ницше от других декадентов заключается именно в том, что он ни под каким видом не согласен принять своей «испорченности», совершенно не доверяет ее внушениям и все время чутко прислушивается к себе, все время следит за собою, – как бы не попыталась в нем творить жизненные ценности его «испорченность».
«Сам я не более, как обломок, – с грустью пишет Ницше своему другу Рэ, – и только в редкие, редко-счастливые минуты дано мне заглянуть в лучший мир, где проводят дни свои цельные и совершенные натуры».
И Ницше крепко держится за эти редкие минуты, старается отрешиться от себя и заглушить мрачные похоронные песни, которые поет его увечная душа. Ей нельзя верить, нельзя позволить ей обмануть себя и его. «Я сделал свою волю к здоровью, свою волю к жизни своей философией, – рассказывает он. – Годы полного падения моей жизненной силы и были теми, когда я перестал быть пессимистом: инстинкт самосохранения воспретил мне философию нищеты и уныния».
Позиция очень опасная. Человек не творит своего мироотношения свободно, из своей сущности, а старается пройти мимо самого себя, выскочить, говоря словами Ницше, «из собственной шкуры». Трудно в таких условиях создать цельное, не противоречивое мироотношение. И мы это видим на Ницше. В одних случаях – творчество «от противоположного», резкое и решительное провозглашение того, чего как раз не чувствует собственная душа. В других случаях, где не успел доглядеть настороженный взгляд не доверяющего себе человека, – творчество прямое, точно отражающее первоначальную «испорченность». Прочный колокол неведения – и благословляющее утверждение бездн, «преодоление человека» – и санкция его упадочных инстинктов, великая любовь Заратустры – и нарочито разжигаемая им в себе жестокость, проповедь радости жизни – и восхваление трагического пристрастия к страданиям и ужасам – все это, конечно, можно психологически объяснить, но совершенно невозможно все это объединить в одно цельное, из «бронзы» отлитое жизнеотношение.
Сойдя с ума, Ницше послал своему другу, музыканту Петеру Гасту, такую записку:
Моему maestro Pietro. Спой мне новую песню.
Мир ясен, и все небеса радуются.
Распятый.
Эту новую песню сам Ницше и пропел миру. Пригвожденный ко кресту, со смертною мукою и отчаянием в душе, он славил ясность мира и радость небес. Только такую радость он и знал. Только так смог он понять и радость аполлоновского эллина: что такое светлый мир его божеств? Не больше, как «восхитительные видения истязуемого мученика».
Аполлон мог на минуту обмануться, слыша мужественные призывы Ницше к верности земле и к светлой радости жизни. Но достаточно было ему взглянуть на это искаженное мукою лицо, на эти экстатические глаза, полные радости, «которую знает только самый страдающий», чтобы сказать: «Нет, этот – не из моих сынов, не из моих учеников и сопричастников». И с суровым равнодушием Аполлон отвернулся от него.
Ницше однажды сказал про ненавистных ему христиан: «Христианином не делаются: надо быть достаточно больным для этого». Обратное мог бы сказать Аполлон про самого Ницше: «Аполлоновским человеком не делаются: надо быть достаточно здоровым для этого».
X
Трагедия Ницше
Якоб Буркгардт отмечает одну характерную особенность бога Диониса. «От всех других эллинских божеств, – говорит он, – Дионис отличается, между прочим, тем, что он фанатическим образом требует своего прославления и признания; он один проявляет заботу и ярость, когда ему повсюду не служат».
Действительно, мифы о Дионисе полны рассказами о жестоких карах, которые обрушивает Дионис на смертных, его не признающих. Saeva laesi numinis ira (страшный гнев оскорбленного божества. – Овидий) уничтожает непокорных. Дионис все время как будто говорит человеку: «горе тебе и гибель, если ты не признаешь меня богом!» Олимпийским богам такое требование совершенно чуждо. Они, конечно, жестоко мстят людям за частные обиды, но им просто даже не приходит в голову мысль, что кто-нибудь может их отрицать, не признавать.
Эта особенность Диониса многознаменательна. Можно объяснять ее тем, что Дионис позже других богов пришел в Элладу, что ему приходилось постепенно завоевывать то признание, каким естественно пользовались боги олимпийские. Однако особенность эта в то же время глубоко лежит в самом существе Диониса.
Вера, при которой божество исходит непосредственно из жизни, – аполлоновская вера Гомера, Франциска Ассизского, Гёте, Толстого, Уолта Уитмена, Рабиндраната Тагора, – вера эта не требует обязательно от человека формального признания божества. Душа переполнена жизнью, переполнена блаженным ощущением огромной и таинственной ее значительности. Ощущение этой огромности пытаются обыкновенно выразить в случайных и совершенно нехарактерных терминах пространства и времени, говорят об ощущении «бесконечного», «вечного». Но гораздо, по-моему, правильнее называть ощущение этой дух захватывающей огромности ощущением божественного. Из этого-то именно чувства и рождаются благороднейшие элементы всякой религии.
Так вот. Если душа человеческая переполнена ощущением божественности жизни, то важно ли, как назовет человек это ощущение? Гретхен спрашивает Фауста:
Скажи мне, веруешь ты в бога?
И она уверена, что точный и решительный ответ на этот вопрос ужасно важен. А Фауст только мягко улыбается и просто отстраняет вопрос.
Ты видишь, как приветливо над нами
Огнями звезд горят ночные небеса?
Не зеркало ль моим глазам твои глаза?
Не все ли это рвется и теснится
И в голову, и в сердце, милый друг,
И в тайне вечной движется, стремится
Невидимо и видимо вокруг?
Пусть этим всем исполнится твой дух,
И если ощутишь ты в чувстве том глубоком
Блаженство, – о! тогда его ты назови
Как хочешь: пламенем любви,
Душою, счастьем, жизнью, богом, –
Для этого названья нет:
Все – чувство. Имя – звук и дым…
В душе аполлоновского человека прочно живет это блаженное ощущение непрерывного светлого таинства, видимо и невидимо творящегося вокруг него. А назвать ли это ощущение счастьем, назвать ли жизнью, назвать ли богом – не все ли равно? Интеллектуальная совесть одного скажет: это живой, самостоятельно существующий бог. Интеллектуальная совесть другого скажет: это – только известное душевное состояние, быть может, совершенно обманчивое, хотя и блаженное ощущение прочной связи с целым. Но что же из того, что обманчивое? Это блаженство, эта связь ярко ощущается человеком, как матерью ощущается связь ее с ребенком. Не все ли равно для матери, «обманчиво» ощущение этой связи, или связь реально существует? То же и тут. Существо отношения человека к жизни мало изменится от того, будет ли у него одна теория познания или другая. «Жизнь есть все, жизнь есть бог», – говорит у Толстого Пьер Безухов. Признающий жизнь тем самым признает и бога, хотя, может быть, и сам об этом не знает. Формальная вера в бога имеет здесь значение второстепенное.
Герои Толстого, например, очень легко распределяются на две резко обособленные группы, людей живых и мертвых, по признаку, есть ли в них сила жизни, или нет. Но совершенно невозможно разделить их, руководствуясь признаком, верят ли они в бога. Как с первого раза ни странно, но этим признаком всего менее определяется душевная жизнь толстовских героев. Вот живые люди, цельно принимаемые душою Толстого: Платон Каратаев верит в православного бога, Хаджи-Мурат – в Аллаха; дядя Ерошка, хотя в бога и верит, но думает: «Сдохнешь, – трава вырастет на могиле, вот и все»; Наташа Ростова к богу равнодушна; революционер Набатов – атеист. Но у всех их одинаково – живое, глубоко религиозное отношение к жизни, в душах всех одинаково живет Бог-Жизнь. И это объединяет всех столь различных людей в одну группу людей живых. Бог их совсем не нуждается, чтоб ему говорили: «Да, ты существуешь!» Для людей с таким жизнеотношением вопрос о существовании бога никогда не может стать основным вопросом и трагедией жизни: назван ли бог человеком или нет, – он все равно непрерывно живет в душе человека.