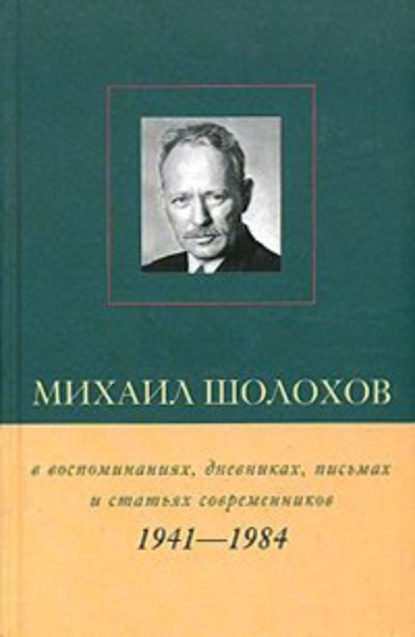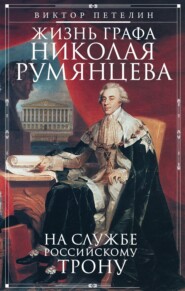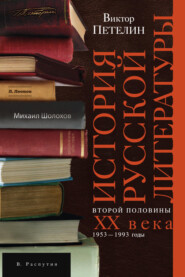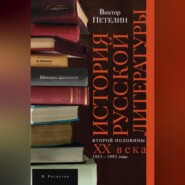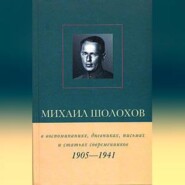По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Михаил Шолохов в воспоминаниях, дневниках, письмах и статьях современников. Книга 2. 1941–1984 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Алеша, все от тебя зависит… Выдержит налепленный нос испытание кинокамерой? Будет этот актер выглядеть на двадцать Гришкиных лет? Словом, станет ли Глебов Мелеховым – во многом зависит от твоего искусства, Алеша…
Я знал, уезжая на гастроли с театром, что Герасимов пробует на роль Мелехова и других актеров. Но со мной режиссер вел себя так, что едва заронившаяся надежда росла, крепла, помогла мне и в гастролях думать над ролью, вглядываться в глубины шолоховской сокровищницы.
И вот – вызов в киногруппу… Еду, уже внутренне сотрясаясь от волнения. Сажусь на грим к Смирнову и вижу… Даже сейчас, спустя много лет, вспоминать жутковато… Вижу фотографию одного из самых почитаемых мною актеров – Сергея Бондарчука – в гриме Григория, моего Гришки, без которого, казалось, мне уже и не жить! Завертелись мысли, навязчивые, как осы, и никакого отношения к образу Григория не имеющие. Встал из-за столика загримированный актер. Мрачно пошел к Герасимову и честно признался, что выбит из творческой колеи.
И вот она – мудрость большого художника и педагога: Герасимов попросил меня в этюдном порядке порепетировать одни из самых темпераментных эпизодов в роли Григория. Белый генерал Фицхелауров старорежимно распекает Мелехова за казачий его анархизм, за недостаток дисциплины у казаков, и Гришка хватается за шашку, а затем, с трудом совладав с собою, предупреждает: «Как бы мои казачки вас не потрепали…»
– Кто будет Фицхелауровым? – спросил я.
Герасимов ответил:
– Вероятно, Рубен Николаевич Симонов. А сейчас – я…
Кто же из нас не знает, какой отличный партнер, артист Герасимов! Мы, как говорится, «связались», схватились глаза в глаза. Мой собственный, актерский, камень, который хотелось своротить с души, стал камнем Григория. Я закончил сцену, трахнув кулаком по столу. Вылетел в коридор, шумно хлопнув дверью. Вернулся и увидел удовлетворенное лицо Герасимова:
– Ну, брат, темперамента мелеховского у тебя хватает, даже с лишком!..
Тут же он вызвал киногруппу, пригласил на репетицию Элину Быстрицкую, исполнительницу роли Аксиньи, и попросил нас с ней публично экспромтом почитать первую сцену встречи юноши Григория со своей будущей единственной любовью. Я понимал: это экзамен на двадцатилетнего Мелехова, самый ответственный. И если я ухитрился выдержать его с честью, заслуга в том и Элины, и Сергея Аполлинариевича, и удивительных людей из киногруппы – герасимовских единомышленников, которые сумели превратиться из зрителей в заинтересованных соучастников творческого процесса.
Вы спросите, как же «прижился» на моем лице мелеховский нос, созданный пластическим искусством Алексея Смирнова? Впервые в гриме Григория Герасимов увидел меня на лестнице киностудии, остановился, вгляделся и тут же позвал кинооператора Раппопорта: «Гляди-ка. Не Мелехов ли?» Раппопорт почти вплотную рассматривал меня, но, по собственному его признанию, так и не определил, где кончается мое лицо и начинается пластическая подделка. Портрет, созданный А. Смирновым, был признан.
Дальше началась удивительная жизнь в хуторе Диченском, близ станицы Каменской, в восемнадцати километрах от железной дороги, в местах исконно казачьих. Я жил на квартиру у старой донской казачки тети Веры, растворился среди местного люда, приобрел повадки типичного донского казака, гутарил распевно, мягко заканивая слова, вжился в донскую песню, самозабвенно ловил рыбу с местными «асами» рыболовецкого дела. Жизненный багаж – деревенское детство, верховая езда, командирский опыт на фронте, умение носить военную форму – помог быстро и легко овладеть премудростями казачьей жизни, веками воспитанной в традициях военного лагеря.
Помню: идут двое и с трудом ведут на распусках горячего, непокорного жеребца. Я залюбовался им. Спросил:
– Куда ведете такого красавца?
– Вам, Петр Петрович, вам купили. Будете на нем сниматься.
Я сел в седло и ощутил себя в стременах увереннее, чем в детстве, на необряженной лошади. Не тут-то было! Жеребец решил оправдать свою кличку Диктатор и показать мне, что старшим в нашем товариществе будет он. Диктатор понес меня в степь, норовя сбросить. Спор был долгим. «Последнее слово» осталось за мной, и полтора года длилась большая наша дружба с великолепным элитным дончаком. С ним мы ходили в атаки, преодолевали препятствия. И все это – без дублеров. «Никаких дублеров не должно быть у Григория», – предупредил Герасимов с самого начала.
Как он оберегал Шолохова, этот удивительный мастер кино! Многие сцены снимались без монтажных «ножниц», только средствами внутрикадрового монтажа, четко выстроенной мизансценой, как в театре.
– Уважим Шолохова и актеров, – просил он оператора. – Не станем мешать органическому процессу. Не будем дробить сцену.
Радостно было сниматься в «Тихом Доне». Режиссер создавал такую атмосферу, что, приходя на съемочную площадку, я тотчас же ощущал не условности кино, но истинную жизнь. Она бурлила вокруг, просилась на пленку. Сама шолоховская земля, казалось, вскармливала наши творческие замыслы. Земляки великого писателя, донские казаки, самоотверженно служили будущей киноэпопее о тихом Доме. Надо было плакать – станичницы рыдали безутешно, и это нельзя было назвать киномассовкой – это была подлинная народная сцена. Казак, одетый революционным матросом, которого мой Мелехов должен был зарубить шашкой, просил меня:
– Ударь как следует! Стерплю. Надо, чтоб все было по правде!
Мне сменили настоящую шашку на деревянную ее копию, и я ударил. Казак долго растирал ушибленную руку и улыбался счастливо.
Пригласили на эпизод «Свадьба» сорок станичников. Они пришли в павильон, на киностудию, и завладели им полностью. «Я был здесь зрителем, а не режиссером», – признавался Герасимов. А я увидел, как герои Шолохова живут на его земле, как воспринимаются вовсе не литературными персонажами. Как же тут солгать актеру!
Я прожил с моим героем всю его сложную, невиданно трагическую жизнь. Жизнь человека, нутром своим ненавидящего насилие, войну, а на деле убивавшего столько, сколько хватило бы на десять жизней профессионального военного. Я пережил с ним ужас и горечь при виде утенка, случайно зарезанного косой, и бросил косить, ушел в сторону. И первого зарубленного австрийского солдата оплакал я вместе со своим Гришкой. И хотелось, чтобы меня, убийцу братьев по крови – русских матросов, – «предали земле» вместе с Григорием. С отвращением я бросил винтовку, утопил ее, возвращаясь домой, в хутор Татарский. И никогда не забыть чувства, которое я испытал в сцене прощания Григория с могилой Аксиньи.
Предельная тишина была организована Герасимовым на съемочной площадке. Приготовили все так, чтобы не помешать актеру. Мне дали вволю наглядеться на могилу, погладить сырую землю холмика, подровнять его. И как-то само собой вышло, я собрал в ладонь белые камешки и с любовью выложил их крестиком на могиле. Тут и пришло самое драгоценное: простые физические действия, простые, но верно найденные, вызвали веру в обстоятельства, открыли душевный клапан во мне, актере, а клапан этот оказался мелеховским. Потекли скупые, тяжелые слезы Григория. Тихо-тихо сказал Герасимов: «Мотор!» Едва слышно зашуршала в аппарате пленка, и увековечилась на ней моя актерская звездная минута – неповторимая, недостижимая более…
А потом я видел слезы Михаила Александровича Шолохова. Он смотрел третью серию фильма. Дали свет. И Шолохов трогательно схитрил – сказал, вытирая слезы:
– Ох, Сережа, спасибо: лошадок любишь…
Незабываемы дни премьеры «Тихого Дона» у Шолохова, в Вешенской. Картину крутили круглые сутки – зрительный зал не вмещал толпы желающих, прибывших и из соседних станиц и хуторов. Телеги, бедарки, пешие ходоки – все запрудило двор вешенского Дома культуры.
Вглядываясь в возбужденные лица земляков, Михаил Александрович сказал:
– Мне дорог этот фильм за то, что он идет в дышловой упряжке с моим романом…
И ныне, в дни 70-летия выдающегося писателя, я низко кланяюсь ему за великое счастье моей встречи с таким многообъемлющим народным характером, каким создал он своего Григория Мелехова. За то, что Григорий оказался моим, главной ролью в моей творческой судьбе. За то, что Шолохов вместе с двумя другими большими художниками, Станиславским и Герасимовым, вошел в мою жизнь, завершив великое триединство, воспитавшее во мне гражданина и художника.
С. Бондарчук
«Судьба человеческая – судьба народная»
Режиссер Сергей Бондарчук поставил три фильма – «Судьбу человека», четырехсерийную «Войну и мир» и «Ватерлоо», идущий на экране два с половиной часа. Каждый из них становился событием в искусстве, собирал десятки миллионов зрителей, приобретал широкую международную известность.
Теперь С. Бондарчук приступает к постановке своей четвертой картины – экранизации романа Михаила Шолохова «Они сражались за родину». Уже готов написанный режиссером сценарий двухсерийного широкоформатного фильма, выбраны места будущих съемок.
– Я не считаю себя автором сценария, – подчеркивает С. Бондарчук, – это моя ЭКРАНИЗАЦИЯ. И в титрах будет сказано «Михаил Шолохов. «Они сражались за родину». Ведь это Шолохов создал разнообразные, неповторимые человеческие характеры – вчерашнего агронома Николая Стрельцова, бывшего шахтера Петра Лопахина, колхозного комбайнера Ивана Звягинцева. В трудное для родины время они стали автоматчиком, бронебойщиком и стрелком. А я попытаюсь воссоздать на экране эти характеры, найти стиль постановки, отвечающий шолоховской прозе, исполнителей, которые сумеют пластически выразить образы шолоховского романа.
– Вы второй раз беретесь за шолоховскую прозу, и из четырех ваших фильмов два – экранизации его произведений. Чем привлекает вас творчество этого писателя?
– Михаил Александрович Шолохов относится к тем художникам слова, книги которых читаешь и перечитываешь всю жизнь, потому что каждый раз открываешь в них нечто новое, созвучное твоему сегодняшнему душевному настрою. Его истинно народный талант развивает лучшие традиции русской литературы, идущие от Пушкина, Гоголя, Льва Толстого. Помню, как меня буквально потряс появившийся на страницах «Правды» шолоховский рассказ «Судьба человека». Еще не было ни сценария, ни даже разговоров о фильме, а я уже знал, что отдам все силы души, все творческое волнение, чтобы воплотить на экране это глубоко человечное повествование о людях, прошедших жестокие испытания и не утративших веру в человека, в свет нашей жизни.
В моей режиссерской и актерской судьбе встреча с Шолоховым сыграла решающую роль. Фильм «Судьба человека» был не просто режиссерским дебютом, а настоящей школой художественного познания народной жизни. И в «Судьбе человека», и в «Науке ненависти», и в романе «Они сражались за родину» Шолохов с удивительной глубиной и силой показал героический подвиг человека на войне. Сейчас, вплотную приступив к осуществлению своей многолетней мечты – экранизации романа «Они сражались за родину», – я вновь и вновь перечитываю опаленные войной страницы этой книги, стараясь постичь духовную красоту героев, проникнуть в их психологию.
Задачи воплощения кинематографом этого произведения – сложности невероятной. В прозе Шолохова такая изобразительная драматическая сила, какой владели Рембрандт, Гойя и Суриков. Такое неистребимое жизнелюбие и юмор, равных которым, как мне кажется, не было и нет в нашей литературе. В первые дни войны, когда появились газетные статьи и очерки Шолохова, Евгений Петров написал о нем: «Это редчайший художник! Подметит деталь, как никто другой, скажет одно слово – и возникнет целая картина».
Рассказывая о народном подвиге, о мужестве и теплоте человеческих отношений, мужской солдатской дружбе, Шолохов проникает в самую суть народного характера, народной психологии, в существо нашего оптимизма, вскрывает нравственные истоки нашей победы. Каждое слово его книги пронизано верой в человека, в неиссякаемые силы народа. Шолохов писал, что в этом романе ему «хочется показать наших людей, наш народ, источники его героизма». И поставленную перед собой задачу он выполнил. Книга Шолохова прежде всего правдива. Без ложного пафоса и ходульного героизма она рассказывает о величии духа советских людей и их воле к победе, о тяжких буднях и возвышенном порыве, о быте войны и ее героике. Найти достойное воплощение на экране для масштабных событий романа – может ли быть более сложная и почетная задача для кинематографиста?
– Автор не закончил работу над романом, впереди его продолжение. Не создает ли это трудности для экранизации?
– Еще в войну, когда Шолохов был военным корреспондентом «Правды», начали печататься главы из романа «Они сражались за родину». Тогда и обрели жизнь солдаты 38-го стрелкового полка – сто семнадцать человек с двумя офицерами и завернутым в чехол знаменем, которое несет сержант Любченко. Их ведет контуженый командир 2-го батальона капитан Сумсков, принявший на себя командование полком после смерти майора. А когда окончился бой на небольшой высоте у хутора, где было приказано закрепиться и задержать противника, осталось в живых всего двадцать семь человек, и старшина Поприщенко повел их на левобережье Дона. Жестокие сражения этой горсточки бойцов с атакующими фашистами – вот и весь простой сюжет первой части романа. Но удивительно богаты мыслями эти немногие главы, написанные сдержанно, скупо и вместе с тем со всей яркостью и сочностью шолоховского языка. Удивительны образы действующих лиц – каждый со своим характером, речью, складом ума. Не спутаешь сибиряка бронебойщика Борзых, повара Лисиченко, родившегося на Украине, курянина Павла Некрасова…
Когда в 1959 году издательство «Молодая гвардия» собрало опубликованные главы романа в одну книгу, они предстали в отчетливо завершенном виде. И читаются как законченное произведение с внутренним сюжетом, стремительно и резко развивающимся действием, полнокровными характерами и судьбами, за каждой из которых – судьба народа. Михаил Александрович продолжает писать новые части и главы романа, но эта книга уже живет. Ее инсценируют театры – имени Моссовета, Русский театр в Ташкенте и другие.
Книга рассказывает о горьких днях отступления, о том горниле, в котором закалялись и выковывались души людей. «Война – это вроде подъема на крутую гору, – говорит Стрельцов, – победа – там, на вершине, вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них – на заднем плане, главное – добраться до вершины во что бы то ни стало! Скользят, обрываются, падают, но снова поднимаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут!» Шолохов раскрывает душу советского человека в тягчайших испытаниях, но показывает людей, не сломленных этими испытаниями. Мы видим их в трудностях почти нечеловеческих, но понимаем, что эти двадцать семь человек – ядро того будущего полка, что выстоит у Сталинграда, отбросит врага от Курска, освободит Варшаву и войдет в Берлин.
– Со времени окончания войны прошло почти тридцать лет. Выросли новые поколения, не видевшие войны своими глазами. Чувствовали ли вы в связи с этим необходимость определенного отбора литературного материала?
– Книга создавалась по горячим следам событий, и военная пора на многое наложила свой отпечаток. Сегодня нужна поправка на время, но отнюдь не из конъюнктурных соображений; потребность эта вызвана общим развитием жизни, новым осмыслением прошлого. С этим согласился и Михаил Александрович. Экранизируя книгу, мы отбираем события, факты, определенные сюжетные линии. И в этом отборе проявляется наше отношение к жизни. Главное в том, чтобы сохранить дух книги, о котором я уже говорил, – дух органического единства советского человека со своим народом, с особой силой проявившийся в годину военных испытаний, в дни, когда решалась судьба страны.
– Вы говорите о масштабности образов и событий романа, о его эпическом характере. Вероятно, это тоже привлекло вас, ибо соответствует вашему художественному стилю.
– Под словом «масштабные» я имею в виду не количество серий и не число полков в кадре, а прежде всего значительность содержания. А значительное, то есть важное для жизни людей, содержание, красота формы, искренность – необходимые компоненты для создания истинно художественного произведения. Есть люди, высокомерно и снисходительно относящиеся к масштабному кино. Любую большую картину они почему-то относят к коммерческому кинематографу, – только потому, что она привлекает людей. Но ведь именно в этом наша сила, ибо если фильм привлек в кинозалы миллионы людей, то это наша победа. Мы, кинематографисты, нередко кичимся массовостью своего искусства. Но никак не хотим всерьез задуматься о том, что массовое – значит, более других связанное с массовым сознанием. Кино – это зритель. Несчастен режиссер, на чей фильм никто не идет. Кинематографист не может быть эстетствующим, не может ориентироваться на малую аудиторию. А большие, масштабные произведения, связанные с учетом новейшей техники кино, обладают огромным воздействием на зрителя. Мне кажется, главное достоинство нашего искусства именно и заключается в процессе соучастия зрителя (пусть в воображении) в кинематографическом действии. Художник заражает, захватывает зрителей силой своего искусства, энергией своего художественного взгляда и чувства. Ради этого и существует искусство. Лев Толстой считал, что «главное условие драматического произведения – иллюзия, вследствие которой читатель или зритель живет чувствами действующих лиц». Если мне удастся добиться этого в экранизации романа, я буду счастлив.
– Какие средства – режиссерские, операторские, актерские – вы считаете самыми важными для решения художественных задач, стоящих перед вами в фильме?
– Идею крупного произведения киноискусства невозможно раскрыть силами одних актеров, средствами одной лишь режиссуры, мастерством операторов или художников. Ее невозможно раскрыть через одного, даже великолепного актера или через отдельную, даже очень важную сцену. Только совокупность всех этих компонентов и усилий позволяет раскрыть авторский замысел. У Гоголя есть такие строчки: «Нет выше того потрясения, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силах сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, нежели наилюбимейшая опера». Здесь речь идет о театре, но «согласованное согласие» всех компонентов, конечно, должно присутствовать в каждом произведении искусства. А режиссер фильма, как дирижер в большом оркестре, должен, если можно так выразиться, привести все инструменты к согласию, подчинить их одной художественной воле. И этот ансамбль он начинает создавать с первых дней работы над фильмом.