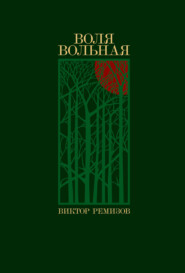По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вечная мерзлота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Полная безнадега, чего и говорить! – продолжил Шура ранее начатую мысль. – Сколько раз представлял, как ухожу от реки… – Шура повернулся и строго посмотрел на Горчакова, – вроде бы и Россия кругом, а никогда до людей не добраться! Очень неприятно, Георгий Николаич, на тот свет получается, уходишь!
Горчаков качнул головой, соглашаясь, сам рассматривал изуродованный берег реки. Еще три дня назад тут было тихо, как у Христа за пазухой. Нетронутая, полусонная тайга и мутная весенняя река с белыми торосами по берегу. Птички пели… Но за два последних дня пришло много барж, заключенных сильно прибавилось и тайги навалили много. Километра на три вдоль берега все уже лежало, словно скошенное, деревья распиливали, растаскивали, жгли в кострах и сбрасывали в реку, освобождая место под площадки. Десятки барж стояли под разгрузкой, росли горы стройматериалов… и всюду, как в гигантском муравейнике, сновали и сновали люди. Издали не разобрать было, кто из них в серых казенных робах, а кто в полевой форме с портупеей и кобурой на поясе.
– Лепила[10 - Лепила – доктор, врач, фельдшер (лагерный жаргон)]! – Напрямую, через завалы к ним пробирался помбригадира Козырьков. – Млятский рот! Заманался искать! Давай к капитану!
Горчаков очнулся от мыслей, посмотрел на топор, торчащий рядом в дереве.
– Я заберу, – понял его Шура.
Горчаков надел верхонки и стал спускаться к реке.
– Особист врача требует, Николаич. – Козырьков шел сзади, вытирая пот со лба.
Козырьков, хоть и пытался разговаривать, как блатной, но блатным не был. Крестьянин Тульской губернии, он сидел четвертый год за два мешка картошки, которые кто-то спрятал у него за ульями в омшанике. Он был страшно удручен такой несправедливостью и подробно рассказывал, как те мешки стояли почти на виду, и как бы он их заныкал, если бы хотел на самом деле спрятать. Больше всего его расстраивало, что мешки достались тому, кто стукнул. В помбригадиры он попал случайно и очень дорожил местом. Это была самая высокая должность за всю его жизнь. Покрикивать даже научился.
Они шли вдоль торосов, впереди из баржи выгружали женский этап. Большая его часть уже вышла и неровной колонной медленно поднималась по склону. У баржи выстраивали последние пятерки, считали. По мере приближения к женщинам Козырек оживлялся, щупал реденькие усы, расстегивал черную казенную спецовку и поглаживал откуда-то взявшуюся у него тельняшку. Улыбался глуповато и заговорщицки поглядывал на Горчакова.
Две женщины неподвижно лежали на солнце, лица прикрыты грязной мешковиной. Обе в серых робах и босые, ступни одной были худыми и маленькими, как у подростка.
Рядом с ними на бушлате разметалась тяжело опухшая женщина. Серое изношенное платье разлезалось на необъятном животе. Дышала с задержками и хрипом, глаза совсем заплыли. Старшина, начальник конвойной команды что-то зло выговаривал пожилому сержанту с автоматом на плече. Тот курил вонючий самосад, вежливо пуская дым из седых усов мимо командира. На корточках возле больной сидела заключенная, грела в ладонях кружку с водой, красивые темные волосы выбились из-под платка.
– Коля, найди пару досок на носилки, – попросил Горчаков помбригадира и присел к старухе. Взял руку, нащупывая пульс.
– Водянка, – негромко подсказала женщина с кружкой. У нее были тонкие пальцы, тонкие черты лица и большие черные глаза. – Пульс плохой…
– Вы врач? – Горчаков был спокоен, будто в руках у него не было руки умирающей.
– Да. Педиатр.
– Прокол сделать можете?
– Никогда не делала.
– Умрет, если не проколоть.
– Попробую…
– Дайте мне эту женщину в помощники? – повернулся Горчаков к начальнику конвоя.
Старшина ничего не ответил, зыркнул красными от недосыпа глазами и пошел было к дальней барже, где уже началась выгрузка мужчин. Но вдруг вернулся и решительно встал над Горчаковым, продолжавшем сидеть на корточках.
– Встал! – рявкнул, глядя с ненавистью сверху вниз.
Горчаков отпустил руку старухи, поднялся и отступил на шаг.
– Слушаю! – старшина был на полголовы ниже, и в два раза моложе, он еле сдерживался, чтобы не ударить Горчакова в лицо.
– З/к Горчаков, статья 58.10. 25 лет… фельдшер медпункта, гражданин начальник, – доложил Горчаков по форме.
В его позе, лице, голосе не было ничего. Никакого внутреннего движения, ни эмоций. Он говорил эту фразу тысячи раз, он начал произносить ее еще тогда, когда старшина, высунув кончик языка, учился выводить буквы в тетрадке в косую линейку.
– Совсем страх потеряли, фашисты недобитые… – прошипел старшина и, зло глянув на седоусого сержанта, спокойно стоявшего рядом, пошел к дальней барже.
– Что, заберешь что ли?! А то околеет… – сержант добродушно обратился к Горчакову. Он пытался раскурить самокрутку, но она опять погасла. – Покойников-то куда у вас тут? Самойлов!! – крикнул сержант негромко в сторону баржи.
– Я, товарищ сержант! – по палубе бежал боец, шаги гулко отдавались в пустоту трюма.
– Возьми дневальных, пусть закопают… маленькая воняет уже… – сержант посмотрел на бездыханную самокрутку, попробовал еще из нее потянуть и бросил на землю.
Из дальней баржи через грязный торос переваливала темная масса мужчин с узлами и чемоданами. Выгружали в недостроенную зону. Местной охраны не было, передать было некому и вместо отдыха, уставшему за долгую дорогу конвою надо было выставлять охрану на берегу. Стрелков не хватало, старшина был злой, он точно знал, что кого-то недосчитаются в этой неразберихе. Холеный лейтенант-особист с полувзводом бойцов занимался приемкой женского этапа. Это старшину злило больше всего.
– Семенов, – заорал старшина, подходя к разгрузке, – всех собак на берег! Живо!
– Они там ноги переломают, товарищ старшина! Казбек уже хромает!
– Я что, сука, сказал! Выполнять! Казбек херов!
Горчаков с Шурой поднимались наверх к медпункту. С конца марта, когда они с одной из первых групп прибыли в станок Ермаково, ни большого начальства здесь не было, ни работяг толком и жизнь была неплохой. Начальство сидело в жарко натопленном бараке, иногда ездили в санях ловить корюшку, иногда, когда из-за пурги долго не было борта из Игарки, приходили к Горчакову одолжиться спиртом.
Блатарей не было совсем и жили спокойно, о лагере напоминали только утренние и вечерние поверки, да дневальный с его «Подъем! Подъем, ребята!», потом Горчаков с Шурой уходили в медпункт – он был не в зоне, там они и обедали, а иногда и ужинали.
Начальником третьего отдела[11 - 3-й оперативный (особый) отдел следил за политической благонадежностью и моральным состоянием заключенных, вольнонаемных и частей охраны. Выявлял госпреступления (измена, шпионаж, диверсия, терроризм), контрреволюционные организации и лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Начальник 3-го отдела (по-лагерному – «кум») не подчинялся начальнику лагеря, но напрямую 3-му отделу ГУЛАГа. (Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД СССР).] был лейтенант Иванов. Среднего роста, крепкий и подтянутый, он был образцом для всего небольшого лагеря – водки не пил, на веселые пьяные рыбалки не ездил, каждое утро обливался ледяной водой у ручья, через день бегал на лыжах, а еще занимался на турнике или, раздевшись до пояса, колол на морозе дрова.
Еще он был начитанным и любил пофилософствовать на отвлеченные темы. О высоком долге человека на земле или о человеческом достоинстве. При этом, как и полагается особисту, Иванов никому не верил, а зэков презирал. Как потерявших это самое достоинство.
Жили сыто, повар был знакомый, иногда местные приходили в медпункт или приводили ребятишек, за что приносили соленой осетрины или лосятины. Горчаков не толстел, а Белозерцев даже округлился, отчего испытывал притворное неудобство, разглядывая себя в зеркало.
Теперь все менялось, Шура сокрушенно об этом заговаривал, Горчаков же был спокоен, за тринадцать последних лет, как только ни менялась его жизнь. Она текла не в человечьем, но каком-то другом измерении, часто таком тесном, что в нем с трудом помещалась миска баланды с селедочной головкой.
4
Четверо флотских выпивали на утреннем солнышке. На самом верху, чуть в стороне от ермаковского взвоза стоял древний, вкопанный в землю стол с двумя лавками. На столе толстый шмат сала, соленая стерлядка и текущая жиром нельма на газетке, кусок отварного мяса, свежий хлеб. По граням стаканов скакали весенние солнечные зайчики. Одна пустая поллитровка из-под спирта уже валялась под столом. Капитан Белов в тельняшке, без кителя поднимался от ручья с трехлитровой банкой в руке. В ней молочно мутнел только что разведенный спирт.
Теплую компанию составили заслуженный шкипер парового лихтера Иван Трофимыч Подласов, не менее заслуженный капитан «Климента Ворошилова» Тимофей Кондратьевич Семенчук, главный механик «Ворошилова» – белоголовый и средних лет Петр Сергеич Сазонов. Строгие, темно-синие офицерские кителя со стоячими, подшитыми белыми воротничками, черные брюки, сапоги – форма речников в те времена не отличалась от военно-морской. Все наглаженные, начищенные. Только старый шкипер, мерзнувший в силу возраста, был в новой черной телогрейке, надетой на тельняшку.
Выпивали не торопясь, щурились на родные енисейские просторы, первый трудный рейс вслед за льдами был окончен, Енисей очищался на глазах, начиналась навигация, непростая речная работа, где нет ни дня, ни ночи, где иной раз и месяц, и полтора нет возможности расслабиться, выпить вот так спокойно с товарищами. Поделиться добрыми и худыми новостями: кто куда ходил, как с планом, кто где проштрафился, и как дело обошлось.
Старики сидели за столом, Белов стоял возбужденный. Он поднялся с тостом, его о чем-то спросили, и он уже десять минут рассказывал, как вел свой караван.
– Подкаменную прошли, – глаза у Белова горели интересом и гордостью, но и уважением – заслуженным людям рассказывал… – встали на ночь, а в первом часу ветер поменялся и как поперло… прямо горы льда тащит и все нашим берегом. Якоря срывает, я одну баржу поймаю, другую потянуло. Как переловили – не знаю, вывел всех под левый берег, отстоялись.
– А «Якутию» что? – спросил механик Сазонов.
– Льдами на камни выдавило… Я ее баржи с зэками еле вытащил из торосов… Ветер льдами давит, баржи скрипят, кренятся, охрана перепугалась, орут, чтобы мы их сняли, собака за борт упала… Как не пробили баржи, непонятно.
Белов поблескивал красивыми темно-карими глазами. Он был умный, чистый душой, по возрасту вежливый и даже застенчивый, но и рабочего упрямства в нем хватало. Его, кстати, и четырнадцатилетним матросом звали Сан Саныч. За худобу и высокий рост, но, видимо, и за расторопность не по годам.
– Ну-ну, бывает… – Семенчук с хрустом разрезал луковицу и поднял стакан, – ну, давайте!