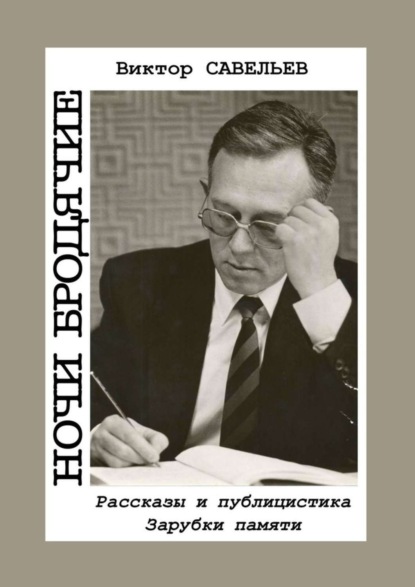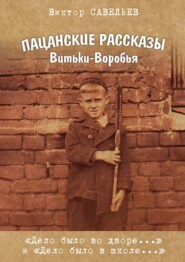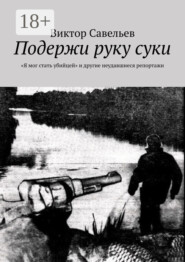По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночи бродячие. Рассказы и публицистика. Зарубки памяти
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…После этой лекции у студентов царило оживление. Спорили, правильно ли было не спрашивать, а кто говорил, что спросил бы обязательно.
– Ребята, да это же готовая новелла! – выкрикнул кто-то из студентов. – Прямо записывай эту историю и в журнале публикуй!
В этот момент было очевидно, что столь ясная мысль пришла не в одну голову… Отрывок из моего неоконченного рассказа тоже был попыткой «новеллы» про бабу Агу и её встречу с А. Н. Толстым.
Однако пора рассказать про невесёлый финал этой истории. К тому времени, как мы сдали все экзамены по языку и стилистике, наш курс был завершающим для бабушки Аги, в ясной памяти читавшей нам лекции на восемьдесят четвертом году жизни.
Страшно представить: в 1920 году она учила на рабфаке при УрГУ ещё лихих рубак гражданской войны, уверенных, что «буржуазную» орфографию отменят, – один из них, по воспоминаниям Даниловой, не согласившись с написанием мягкого знака в слове «учиться», сердито запахнул шинель и предложил студентам-фронтовикам: «Голоснём, ребята!». В 1935-м году, «поповну» Агнию Ивановну, рождённую на Урале в семье священника единоверческой церкви, переводили в машинистки как «социально чуждый элемент» – но с 1939-го она преподаёт на кафедре русского языка и общего языкознания, в 1945-м – и.о. доцента.
Нам просто повезло застать преподавателя такой судьбы с классическим дореволюционным образованием и воспитанием, более полувека обучавшего студентов Уральского госуниверситета. Мы были, можно сказать, последние её птенцы, предпенсионный выпуск Агнии Ивановны Даниловой… Возможно, поэтому почти всех, кто садился поближе к кафедре и на лекциях задавал вопросы, она знала по именам и любила, как любят последних студентов.
Я помню, как мы с однокурсником Борисом Минеевым уже по выходу Агнии Ивановны на пенсию нагло напросились к ней домой. Пришли с тортом и были встречены… Чай нам подала сестра бабы Аги со странным именем Бу?та, её весь курс знал заочно из-за увеличительного стекла. «Да что ж вы мелкими каракулями курсовые пишете? – сокрушалась иной раз в аудитории баба Ага. – Я как тетрадки ваши дома проверять сажусь, так сразу кричу сестре: «Бу?та, принеси сильную лупу…»
Чаёвничали в спаленке, где запомнилась лишь кровать с высокой спинкой. Смотрели старые альбомы легендарной бабы Аги. «Ну, где я на этом снимке?» – с хитрецой спросила она у нас с Борисом. На фотографии, сделанной перед отправкой сестёр милосердия на Первую мировую войну, стояли в два ряда молоденькие девушки-курсистки. К нашему удивлению, Агния Ивановна на давнем снимке оказалась самой крепкой, рослой и жизнерадостной девушкой, чуть не пышкой, стоявшей в верхнем ряду сбоку. Кто бы думал?
– А я вот операцию недавно перенесла, – делилась новостями за чаем Агния Ивановна. – Хирург у меня опухоль вырезал. Но беда – теперь в других местах опухоли стали появляться, уже две новые «горошины» в шее растут. Опять, что ли, придётся их вырезать?..
Мы с товарищем похолодели: неужели она не догадывается, что это могут быть метастазы? Но смолчали, боясь думать о таком…
– Заходите ко мне ещё, – на прощанье сказала нам баба Ага. – Адрес теперь вы знаете…
Но это был последний наш поход к ней, ведь молодость бежит, не оглядываясь на старость. Кипела жизнь. Учёба летела к диплому. Наш курс заочников то слетался в Свердловск на короткие сессии – то, сдав экзамены, вновь разлетался по своим городам.
…Мы с Борисом вспомнили про бабу Агу уже после защиты дипломов в Уральском университете и позвонили ей, чтобы прийти с тортом и цветами… Но она тихим голосом сказала по телефону, что больна и никого уже больше не принимает…
– Что же раньше-то вы не пришли?! – вздохнула она, прежде чем повесить трубку… Её упрёк и сегодня как ожог по сердцу.
…Я многие годы не имел вестей о её кончине, живя за сотни километров от Екатеринбурга и докатившись в своих странствиях до Москвы… И только недавно из сообщения о 125-летии легенды журфака на университетском сайте узнал, что Агния Ивановна Данилова ушла из жизни в июле 1975-го. То есть, похоронили её спустя месяц после того, как мы – молодые, счастливые, с дипломами на руках – разъехались по стране. Никого из нас не оказалось в Свердловске в то жаркое лето, чтобы проститься, да и никто не сообщил…
Тайну цвета «незабвенный закат» я не знаю и сейчас. А мои записки – это запоздалая дань самому замечательному в моей студенческой жизни человеку – Агнии Ивановне Даниловой. Той жизнерадостной курсистке, сестре милосердия, что смотрела на нас со снимка 1914 года. И той преподавательнице, что в 80 с лишним лет с одышкой ползла по ступеням лестницы на четвёртый этаж журфака УрГУ учить нас мудрости языка… Сейчас от бабы Аги остались лишь любительские фото однокурсников да редкие строки у историков Уральского университета. И даже не разгаданный ею цвет «незабвенный закат» растворился в реке Времени. Потому что из нашего курса никто о мучившей её загадке так и не написал ни статьи, ни новеллы. Хотя кто-то из нас всё же должен был это сделать…
Виктор САВЕЛЬЕВ,
выпускник Уральского госуниверситета 1975-го года.
УРОКИ ХЕМИНГУЭЯ
25 ЛЕТ НАЗАД, 2 июля (1961), не стало большого и честного писателя Эрнеста Хемингуэя. Его полюбили в нашей стране миллионы читателей. Помню, с каким шумным триумфом мы открыли его для себя в 60-е годы, когда у нас – один за другим – стали выходить его великолепные рассказы, повести, романы – «И всходит солнце» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» и другие. Довольно полный четырёхтомник писателя почти сразу стал редкостью. В моде были бородки и мужественные лица – «под Хемингуэя», литераторы пытались писать его рубленой фразой, в редком интеллигентном доме не было тогда портрета этого бородатого сильного мужчины в толстом свитере – я тоже купил такую фотографию, выстояв очередь в московском киоске.
Но мода приходит и уходит – в том числе и «на Хемингуэя». Канули в Лету бородки и разочарованные, в духе «потерянного поколения» подражатели-юнцы, осталось только то, что мы зовём большой литературой. Мастер пера и человек яркой судьбы Эрнест Хемингуэй выдержал все отливы моды – загляните в библиотеки: его книги не пылятся на полках без дела, уже несколько поколений читателей получили из них уроки честности, доброты, гуманного отношения к человеку. О мужестве Хемингуэя – как личности и как писателя – наверное, стоит поговорить особо: мы знаем его как очевидца и участника трёх войн, неустрашимого военного корреспондента, поклонника азарта и риска, боксёра, авиатора, неутомимого путешественника и любителя опасной охоты… Не случайны были портреты в гостиных. Это сейчас мы стали очень мудрыми, и иной из критиков брюзжит: мол, Хемингуэй из кожи лез, всё доказать хотел – и в книгах, и в жизни, – что он оставался настоящим мужчиной, это как комплекс у него такой… А мне кажется, что мужество было достоинством во все времена, тем более что у Хемингуэя оно никогда не оставалось самоцелью, а было выражением его гуманизма. Недавно меня поразило своим глубоким смыслом и значимостью одно воспоминание про Хемингуэя, приехавшего военным корреспондентом в сражающуюся с фашизмом республиканскую Испанию. Дело было на прифронтовой дороге: машина с иностранными журналистами попала под бомбёжку и обстрел. Вокруг – огонь и кровь: Эрнест с несколькими товарищами бросается под осколками помогать раненым. И только один из фотокорреспондентов не спешит на помощь, а быстро наводит камеру. Какой эффектный репортаж – огонь и раненые! Какие кадры!
Верстка публикации.
– А ну брось свой фотоаппарат! – оторвавшись на миг от помощи раненым, кричит в гневе писатель и сжимает кулаки. Он ненавидит, когда кто-то хоть на грань поступается человечностью, остаётся в стороне от чужого несчастья. Этот волнующий пример, как в фокусе, высвечивает для нас облик самого Хемингуэя, гуманистическую направленность его таланта и ненависть к подлости во всех её проявлениях.
Этот случай невольно всплыл в моём сознании, когда совсем недавно, по заданию редакции, я выслушивал в следственном изоляторе горький рассказ одного врача, и сам мой собеседник, немало видевший в этих стенах, не мог смириться с подлостью происшедшего. Это было в лесопосадке, в стороне от новых домов: хороший рабочий парень, которому жить бы да жить, подошёл к распивающей пиво и вино компании. Опущу обстоятельства, не важные для нас, – после нескольких слов его ударили ножом. Час или два он истекал кровью и умирал на глазах у пьющих пиво, всё просил слабеющим голосом: «Ребята, ведь умру я – вызовите врача!» Не все были звери, кто-то рванулся, но остановила предводительствующая компанией девица:
– Сидеть на месте! Кто поможет этому дураку, будет иметь дело со мной и моими дружками…
И они покорно сидели, несколько молодых здоровых лбов, потому что боялись отпетых дружков особы, и болтали между собой, и пили пиво – даже после того, как парень на земле затих… И тогда я подумал, что ни один из этих молодых ребят – по малодушию ставших убийцами – никогда не зачитывался Хемингуэем: в них не рождался мужчина вместе с Фрэнсисом Макомбером, героем почти одноименного рассказа, когда тот на опасной охоте одолевал страх; они не ходили рискованными тропами испанских партизан и не выслеживали с героями Хемингуэя немецких подводников среди островов в океане… Мир этого писателя порой жесток и трагичен, но он учит быть честным и стойким даже перед лицом трагических обстоятельств, учит – даже проигрывая – до конца оставаться Человеком, как остались людьми с большой буквы его старик («Старик и море») и другие герои.
В этом сила нравственных уроков Хемингуэя.
Конечно, можно долго говорить и говорить о противоречиях в мировоззрении большого писателя, о них написано немало. Но несомненно, что Хемингуэй всегда был на стороне гуманизма, справедливости и сострадания к простому человеку. И как честный писатель и солдат, он не мог оставаться в стороне от борьбы с фашизмом, всегда был по нашу сторону баррикад. Мы не случайно снова вспоминаем республиканскую Испанию: в июле календарь помечен ещё одной трагической датой – ровно 50 лет назад, в 1936 году, началась национально-революционная война испанского народа против фашистских мятежников и итало-германской интервенции. Об интернациональной помощи республике мы много знаем, помним имена… Мате Залка… Кольцов… Роман Кармен… Среди тех, кто помогал испанскому народу всей силой таланта, конечно же, репортёр Эрнест Хемингуэй – тогда ещё без бороды, в железных очках, пробирающийся из окопа в окоп.
Не многие, однако, знают, что посвящённый испанским событиям роман «По ком звонит колокол» – одно из самых значительных произведений антифашистской литературы – был частично создан на «русском» материале: в отдельных персонажах его угадываются то Михаил Кольцов, то воевавшие в Испании советские военные советники, консультировал Хемингуэя по вопросам описанной в романе диверсионной работы Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи Мамсуров, которого писатель в условиях конспирации принимал за македонского террориста Ксанти. Произведение это сыграло свою роль в то время – не случайно тяжёлым для нас летом 1941 года выделенную из романа повесть об испанских партизанах спускали на парашютах в минские и новгородские леса партизанам – тем, кто сражался с фашистской «голубой дивизией»…
Конечно, рамки этого газетного материала не позволяют говорить о знаменитом хемингуэевском диалоге, подтексте и принципе «айсберга», когда лишь часть того, что знает писатель о жизни, облекается в строки, а остальное как бы активно домысливается читателем и остаётся за «кадром»… Важно подчеркнуть, что глубокое знание жизни Хемингуэй всегда добывал ценой собственного опыта, в его произведениях часто угадываются подлинные события, непременным участником или очевидцем которых был сам писатель. В одном из испанских репортажей он выводит свой кодекс участия в борьбе:
«Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями; кто никогда не хранил запрещённого оружия и не начинял бомб; не отбирал оружия и не видел, как бомбы взрываются; кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамвая по заведомо минированным путям; кто никогда не пытался укрыться на улице, пряча голову за водосточную трубу; кто никогда не видел, как пуля попадает женщине в голову, или в грудь, или в спину…»
Он так и жил – стараясь всё испытать и примерить на себе: войну и голодную жизнь рыбаков с окраин, охоту и приключения, борьбу и горечь неизбежных неудач…
Хемингуэя трудно назвать чисто американским писателем – он писал в довоенном Париже, любил залитую солнцем и кровью Испанию, в последние годы жил и рыбачил на Кубе, где в числе первых деятелей культуры безоговорочно принял кубинскую революцию и победу народной власти… Вот почему, когда 2 июля 1961 года, в семь тридцать утра, перестало биться сердце этого жизнерадостного и мужественного человека, это было с болью воспринято во всём мире.
В романе «По ком звонит колокол» такой конец: американский интернационалист Роберт Джордан – в которого писатель, несомненно, вложил много личного – лежит со сломанным бедром, сжимая в руках оружие, чтобы ценой своей жизни прикрыть отход партизан. Мы не дождёмся его выстрелов, закрыв последнюю страницу книги, – но знаем, что все выстрелы по врагу впереди… Таков, впрочем, и удел книг выдающегося писателя. Зайдите в библиотеку и возьмите книги Хемингуэя. И вы увидите, что они непременно выстрелят. По подлости. По фашизму. По тому, что до сих пор мешает нам жить…
Виктор САВЕЛЬЕВ.
Источник: газета «Вечерняя Уфа», 3 июля 1986 года.
Василий Песков: «С ЭТИМ ЗАДАНИЕМ Я ПОЛЫСЕЛ И ПОТЕРЯЛ ЗУБЫ…»
Не стало Василия Пескова…
Он был целой эпохой в журналистике, куда пришёл почти случайно. В воспоминаниях он писал, что зелёным воронежским парнишкой работал разъездным фотографом в бытовой артели, снимал свадьбы, юбилеи – а случалось и покойников на похоронах. Сами понимаете, какая была работа… И чтобы отвлечься от неё, молодой Василий Песков в свободное время бродил в пригородах Воронежа с фотоаппаратом, ловя в объектив дивные виды, зверюшек, птиц. Однажды и произошёл тот случай, что перевернул его судьбу: Вася Песков ехал в электричке, и случайный попутчик посмотрел его снимки и посоветовал отнести их в редакцию воронежской газеты «Молодой коммунар». А потом публикации «воронежского парня», нового сотрудника «Коммунара», пришлись по вкусу московской «Комсомолке», которая и стала родной газетой Пескова.
Песков воспоминал, что у него хватило ума не браться за какую-то незнакомую тему, писать не по душе. Его коньком были очерки и зарисовки о том, что знал и любил: о природе… Тогда, кстати, об этом не писал никто. И с темой природы Василий Песков просто ворвался в большую журналистику…
Не все сейчас помнят триумфальные вехи этой журналистики. После суровых сталинских лет в годы оттепели оттаивали целые пласты – да что там пласты, залежи новых тем! Новых подходов…
Алексей Аджубей, главный редактор «Известий», зять генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, повернул на новый курс не только свою газету, но и заразил новыми подходами коллег из других изданий. Это был редкий случай, когда «родственник» высокопоставленного лица оказался талантом ко времени проявившимся.
В застёгнутые на все пуговицы официозные советские газеты хлынули новые темы. Впервые появилась, как её тогда называли, «кухонная тематика» – статьи её были не о мартенах и рекордных выплавках стали, а о простых житейских проблемах, обычных людях, человеческих характерах.
На журфаке нам рассказывали историю создания известным публицистом Аркадием Сахниным очерка 1961 года о том, как соседи, чужие люди, взяли в семью мужчину-инвалида, от которого отказалась родня. В «Известиях» тогда была такая придумка для поиска тем: «свежая голова». Освобождённый на день от всякой работы журналист сидел в комнате, где на столы вываливали мешки писем в газету. Хотел читать – читал, не хотел – так курил, метод был в полном освобождении от обязаловки… И вот Сахнин, ковыряясь в письмах, увидел одно письмо – за инвалида по какому-то вопросу хлопотала семья совсем с другой фамилией… Что за загадка? И очеркист поехал по адресу письма в Новосибирск, в семью грузчика Зарубина, 15 лет назад взявшую к себе «чужого» инвалида – фронтовика Григория Бродягина. Про которого Зарубин-старший, Александр Осипович, сказал Сахнину: «Так это формально чужой, а по эпохе он мне брат».
Намеренно делаю это отступление, чтобы было понятно, почему Василий Песков так стремительно ворвался в эту новую журналистику – он нёс глоток свежего воздуха и новую тогда тему любви ко всему живому на земле… Мы имели счастье много лет читать его раздел «Окно в природу» в «Комсомольской правде»… Это было целое направление, столбовая дорога, по которой потом зашагали новые авторы.
Не буду перечислять все книги и удачи Василия Пескова. Скажу только об удивительном сплаве фотографии и текстов, который привнёс Песков в русскую журналистику. Как ни удивительно, но он был одинаково талантлив в обеих этих ипостасях. Снимал Арктику, снимал Африку – какой-нибудь свесившийся хвост, выдававший спрятавшегося на ветке дерева леопарда… Писал чисто и пронзительно про речку своего детства. Много лет рассказывал многомиллионной аудитории читателей про «Таёжный тупик» – судьбу староверов Лыковых, курировал – пока было здоровье – последнюю таёжную отшельницу Агафью Лыкову…
С Василием Песковым, оказавшим влияние на меня и многих коллег, я лично знаком не был. Но однажды присутствовал на его встрече с нами, журналистами, в уфимском Доме печати, где он откровенно рассказывал о себе и творчестве. В то время только отшумело 70-летие СССР, к нему мастер фотографии Василий Песков взялся сделать большую иллюстрированную книгу: снимки с разных уголков страны. Там были и пустыни, и города Средней Азии, Прибалтика, Камчатка, Чукотка, Сибирь, Урал, Алтай, Черноземье, Украина… Задумка была в том, что для каждого уголка необъятной страны надобно было сделать один-единственный снимок, найти тот обо всем говорящий ракурс, который передаст «изюминку» этого места, этой республики или области…
«С этим заданием я полысел и потерял зубы!» – помнится, то ли пошутил, то ли всерьёз сказал Василий Песков аудитории из коллег-журналистов. Проблемы оказались отнюдь не художественно-фотографического плана, а в согласованиях… Цензура советской печати и книгоиздательства была тогда жёсткой. Действовало непременное цензурное правило – не снимать ничего сверху, чтобы не показывать горизонт и «привязку» объектов к местности. Это трактовалась в духе угрозы войны и обороны – капиталистические ракеты и бомбардировщики не должны иметь ориентиров для выбора целей на территории СССР.
Пресловутые «снимки сверху» в газетных номерах и мне попортили много нервов, ведь я более 10 лет проработал в секретариате на вёрстке городской газеты – и бегал согласовывать такие снимки в Главлит (так называли цензуру). Иной раз было легче оторвать от снимка на фотобумаге небо и торчавшие на горизонте «ориентиры» в виде заводских труб и церквей, чем доказывать безобидность панорамной или высотной фотографии…
А в фотоальбоме, выпущенном Василием Песковым к торжественной дате, многие потрясающие фотографии были «снимками сверху» – где-то был ракурс с самой макушки маяка в Прибалтике, под которым плескалось море, где-то – захватывающий дух широкий простор, ибо как покажешь душу России без этой шири и выси… Поэтому трудности при подготовке юбилейного альбома у Василия Песков были во многих местах СССР. И прежде всего, с местными властями, которые были в сто раз святее цензурного Главлита в Москве и боялись обзорных снимков…
«С военными было куда проще договориться насчёт съёмки с высоты, – рассказывал на этой встрече Василий Песков журналистам. – Тебя посадят в вертолёт – и повезут, куда скажешь, махнув рукой на цензуру. Со всех точек объект отснимешь. Но получить разрешение на съёмку с высоты у местных гражданских товарищей было очень-очень трудно…»
– Ребята, да это же готовая новелла! – выкрикнул кто-то из студентов. – Прямо записывай эту историю и в журнале публикуй!
В этот момент было очевидно, что столь ясная мысль пришла не в одну голову… Отрывок из моего неоконченного рассказа тоже был попыткой «новеллы» про бабу Агу и её встречу с А. Н. Толстым.
Однако пора рассказать про невесёлый финал этой истории. К тому времени, как мы сдали все экзамены по языку и стилистике, наш курс был завершающим для бабушки Аги, в ясной памяти читавшей нам лекции на восемьдесят четвертом году жизни.
Страшно представить: в 1920 году она учила на рабфаке при УрГУ ещё лихих рубак гражданской войны, уверенных, что «буржуазную» орфографию отменят, – один из них, по воспоминаниям Даниловой, не согласившись с написанием мягкого знака в слове «учиться», сердито запахнул шинель и предложил студентам-фронтовикам: «Голоснём, ребята!». В 1935-м году, «поповну» Агнию Ивановну, рождённую на Урале в семье священника единоверческой церкви, переводили в машинистки как «социально чуждый элемент» – но с 1939-го она преподаёт на кафедре русского языка и общего языкознания, в 1945-м – и.о. доцента.
Нам просто повезло застать преподавателя такой судьбы с классическим дореволюционным образованием и воспитанием, более полувека обучавшего студентов Уральского госуниверситета. Мы были, можно сказать, последние её птенцы, предпенсионный выпуск Агнии Ивановны Даниловой… Возможно, поэтому почти всех, кто садился поближе к кафедре и на лекциях задавал вопросы, она знала по именам и любила, как любят последних студентов.
Я помню, как мы с однокурсником Борисом Минеевым уже по выходу Агнии Ивановны на пенсию нагло напросились к ней домой. Пришли с тортом и были встречены… Чай нам подала сестра бабы Аги со странным именем Бу?та, её весь курс знал заочно из-за увеличительного стекла. «Да что ж вы мелкими каракулями курсовые пишете? – сокрушалась иной раз в аудитории баба Ага. – Я как тетрадки ваши дома проверять сажусь, так сразу кричу сестре: «Бу?та, принеси сильную лупу…»
Чаёвничали в спаленке, где запомнилась лишь кровать с высокой спинкой. Смотрели старые альбомы легендарной бабы Аги. «Ну, где я на этом снимке?» – с хитрецой спросила она у нас с Борисом. На фотографии, сделанной перед отправкой сестёр милосердия на Первую мировую войну, стояли в два ряда молоденькие девушки-курсистки. К нашему удивлению, Агния Ивановна на давнем снимке оказалась самой крепкой, рослой и жизнерадостной девушкой, чуть не пышкой, стоявшей в верхнем ряду сбоку. Кто бы думал?
– А я вот операцию недавно перенесла, – делилась новостями за чаем Агния Ивановна. – Хирург у меня опухоль вырезал. Но беда – теперь в других местах опухоли стали появляться, уже две новые «горошины» в шее растут. Опять, что ли, придётся их вырезать?..
Мы с товарищем похолодели: неужели она не догадывается, что это могут быть метастазы? Но смолчали, боясь думать о таком…
– Заходите ко мне ещё, – на прощанье сказала нам баба Ага. – Адрес теперь вы знаете…
Но это был последний наш поход к ней, ведь молодость бежит, не оглядываясь на старость. Кипела жизнь. Учёба летела к диплому. Наш курс заочников то слетался в Свердловск на короткие сессии – то, сдав экзамены, вновь разлетался по своим городам.
…Мы с Борисом вспомнили про бабу Агу уже после защиты дипломов в Уральском университете и позвонили ей, чтобы прийти с тортом и цветами… Но она тихим голосом сказала по телефону, что больна и никого уже больше не принимает…
– Что же раньше-то вы не пришли?! – вздохнула она, прежде чем повесить трубку… Её упрёк и сегодня как ожог по сердцу.
…Я многие годы не имел вестей о её кончине, живя за сотни километров от Екатеринбурга и докатившись в своих странствиях до Москвы… И только недавно из сообщения о 125-летии легенды журфака на университетском сайте узнал, что Агния Ивановна Данилова ушла из жизни в июле 1975-го. То есть, похоронили её спустя месяц после того, как мы – молодые, счастливые, с дипломами на руках – разъехались по стране. Никого из нас не оказалось в Свердловске в то жаркое лето, чтобы проститься, да и никто не сообщил…
Тайну цвета «незабвенный закат» я не знаю и сейчас. А мои записки – это запоздалая дань самому замечательному в моей студенческой жизни человеку – Агнии Ивановне Даниловой. Той жизнерадостной курсистке, сестре милосердия, что смотрела на нас со снимка 1914 года. И той преподавательнице, что в 80 с лишним лет с одышкой ползла по ступеням лестницы на четвёртый этаж журфака УрГУ учить нас мудрости языка… Сейчас от бабы Аги остались лишь любительские фото однокурсников да редкие строки у историков Уральского университета. И даже не разгаданный ею цвет «незабвенный закат» растворился в реке Времени. Потому что из нашего курса никто о мучившей её загадке так и не написал ни статьи, ни новеллы. Хотя кто-то из нас всё же должен был это сделать…
Виктор САВЕЛЬЕВ,
выпускник Уральского госуниверситета 1975-го года.
УРОКИ ХЕМИНГУЭЯ
25 ЛЕТ НАЗАД, 2 июля (1961), не стало большого и честного писателя Эрнеста Хемингуэя. Его полюбили в нашей стране миллионы читателей. Помню, с каким шумным триумфом мы открыли его для себя в 60-е годы, когда у нас – один за другим – стали выходить его великолепные рассказы, повести, романы – «И всходит солнце» («Фиеста»), «Прощай, оружие!», «По ком звонит колокол» и другие. Довольно полный четырёхтомник писателя почти сразу стал редкостью. В моде были бородки и мужественные лица – «под Хемингуэя», литераторы пытались писать его рубленой фразой, в редком интеллигентном доме не было тогда портрета этого бородатого сильного мужчины в толстом свитере – я тоже купил такую фотографию, выстояв очередь в московском киоске.
Но мода приходит и уходит – в том числе и «на Хемингуэя». Канули в Лету бородки и разочарованные, в духе «потерянного поколения» подражатели-юнцы, осталось только то, что мы зовём большой литературой. Мастер пера и человек яркой судьбы Эрнест Хемингуэй выдержал все отливы моды – загляните в библиотеки: его книги не пылятся на полках без дела, уже несколько поколений читателей получили из них уроки честности, доброты, гуманного отношения к человеку. О мужестве Хемингуэя – как личности и как писателя – наверное, стоит поговорить особо: мы знаем его как очевидца и участника трёх войн, неустрашимого военного корреспондента, поклонника азарта и риска, боксёра, авиатора, неутомимого путешественника и любителя опасной охоты… Не случайны были портреты в гостиных. Это сейчас мы стали очень мудрыми, и иной из критиков брюзжит: мол, Хемингуэй из кожи лез, всё доказать хотел – и в книгах, и в жизни, – что он оставался настоящим мужчиной, это как комплекс у него такой… А мне кажется, что мужество было достоинством во все времена, тем более что у Хемингуэя оно никогда не оставалось самоцелью, а было выражением его гуманизма. Недавно меня поразило своим глубоким смыслом и значимостью одно воспоминание про Хемингуэя, приехавшего военным корреспондентом в сражающуюся с фашизмом республиканскую Испанию. Дело было на прифронтовой дороге: машина с иностранными журналистами попала под бомбёжку и обстрел. Вокруг – огонь и кровь: Эрнест с несколькими товарищами бросается под осколками помогать раненым. И только один из фотокорреспондентов не спешит на помощь, а быстро наводит камеру. Какой эффектный репортаж – огонь и раненые! Какие кадры!
Верстка публикации.
– А ну брось свой фотоаппарат! – оторвавшись на миг от помощи раненым, кричит в гневе писатель и сжимает кулаки. Он ненавидит, когда кто-то хоть на грань поступается человечностью, остаётся в стороне от чужого несчастья. Этот волнующий пример, как в фокусе, высвечивает для нас облик самого Хемингуэя, гуманистическую направленность его таланта и ненависть к подлости во всех её проявлениях.
Этот случай невольно всплыл в моём сознании, когда совсем недавно, по заданию редакции, я выслушивал в следственном изоляторе горький рассказ одного врача, и сам мой собеседник, немало видевший в этих стенах, не мог смириться с подлостью происшедшего. Это было в лесопосадке, в стороне от новых домов: хороший рабочий парень, которому жить бы да жить, подошёл к распивающей пиво и вино компании. Опущу обстоятельства, не важные для нас, – после нескольких слов его ударили ножом. Час или два он истекал кровью и умирал на глазах у пьющих пиво, всё просил слабеющим голосом: «Ребята, ведь умру я – вызовите врача!» Не все были звери, кто-то рванулся, но остановила предводительствующая компанией девица:
– Сидеть на месте! Кто поможет этому дураку, будет иметь дело со мной и моими дружками…
И они покорно сидели, несколько молодых здоровых лбов, потому что боялись отпетых дружков особы, и болтали между собой, и пили пиво – даже после того, как парень на земле затих… И тогда я подумал, что ни один из этих молодых ребят – по малодушию ставших убийцами – никогда не зачитывался Хемингуэем: в них не рождался мужчина вместе с Фрэнсисом Макомбером, героем почти одноименного рассказа, когда тот на опасной охоте одолевал страх; они не ходили рискованными тропами испанских партизан и не выслеживали с героями Хемингуэя немецких подводников среди островов в океане… Мир этого писателя порой жесток и трагичен, но он учит быть честным и стойким даже перед лицом трагических обстоятельств, учит – даже проигрывая – до конца оставаться Человеком, как остались людьми с большой буквы его старик («Старик и море») и другие герои.
В этом сила нравственных уроков Хемингуэя.
Конечно, можно долго говорить и говорить о противоречиях в мировоззрении большого писателя, о них написано немало. Но несомненно, что Хемингуэй всегда был на стороне гуманизма, справедливости и сострадания к простому человеку. И как честный писатель и солдат, он не мог оставаться в стороне от борьбы с фашизмом, всегда был по нашу сторону баррикад. Мы не случайно снова вспоминаем республиканскую Испанию: в июле календарь помечен ещё одной трагической датой – ровно 50 лет назад, в 1936 году, началась национально-революционная война испанского народа против фашистских мятежников и итало-германской интервенции. Об интернациональной помощи республике мы много знаем, помним имена… Мате Залка… Кольцов… Роман Кармен… Среди тех, кто помогал испанскому народу всей силой таланта, конечно же, репортёр Эрнест Хемингуэй – тогда ещё без бороды, в железных очках, пробирающийся из окопа в окоп.
Не многие, однако, знают, что посвящённый испанским событиям роман «По ком звонит колокол» – одно из самых значительных произведений антифашистской литературы – был частично создан на «русском» материале: в отдельных персонажах его угадываются то Михаил Кольцов, то воевавшие в Испании советские военные советники, консультировал Хемингуэя по вопросам описанной в романе диверсионной работы Герой Советского Союза генерал-полковник Хаджи Мамсуров, которого писатель в условиях конспирации принимал за македонского террориста Ксанти. Произведение это сыграло свою роль в то время – не случайно тяжёлым для нас летом 1941 года выделенную из романа повесть об испанских партизанах спускали на парашютах в минские и новгородские леса партизанам – тем, кто сражался с фашистской «голубой дивизией»…
Конечно, рамки этого газетного материала не позволяют говорить о знаменитом хемингуэевском диалоге, подтексте и принципе «айсберга», когда лишь часть того, что знает писатель о жизни, облекается в строки, а остальное как бы активно домысливается читателем и остаётся за «кадром»… Важно подчеркнуть, что глубокое знание жизни Хемингуэй всегда добывал ценой собственного опыта, в его произведениях часто угадываются подлинные события, непременным участником или очевидцем которых был сам писатель. В одном из испанских репортажей он выводит свой кодекс участия в борьбе:
«Пусть не говорят о революции те, кто пишет это слово, но сам никогда не стрелял и не был под пулями; кто никогда не хранил запрещённого оружия и не начинял бомб; не отбирал оружия и не видел, как бомбы взрываются; кто никогда не голодал ради всеобщей стачки и не водил трамвая по заведомо минированным путям; кто никогда не пытался укрыться на улице, пряча голову за водосточную трубу; кто никогда не видел, как пуля попадает женщине в голову, или в грудь, или в спину…»
Он так и жил – стараясь всё испытать и примерить на себе: войну и голодную жизнь рыбаков с окраин, охоту и приключения, борьбу и горечь неизбежных неудач…
Хемингуэя трудно назвать чисто американским писателем – он писал в довоенном Париже, любил залитую солнцем и кровью Испанию, в последние годы жил и рыбачил на Кубе, где в числе первых деятелей культуры безоговорочно принял кубинскую революцию и победу народной власти… Вот почему, когда 2 июля 1961 года, в семь тридцать утра, перестало биться сердце этого жизнерадостного и мужественного человека, это было с болью воспринято во всём мире.
В романе «По ком звонит колокол» такой конец: американский интернационалист Роберт Джордан – в которого писатель, несомненно, вложил много личного – лежит со сломанным бедром, сжимая в руках оружие, чтобы ценой своей жизни прикрыть отход партизан. Мы не дождёмся его выстрелов, закрыв последнюю страницу книги, – но знаем, что все выстрелы по врагу впереди… Таков, впрочем, и удел книг выдающегося писателя. Зайдите в библиотеку и возьмите книги Хемингуэя. И вы увидите, что они непременно выстрелят. По подлости. По фашизму. По тому, что до сих пор мешает нам жить…
Виктор САВЕЛЬЕВ.
Источник: газета «Вечерняя Уфа», 3 июля 1986 года.
Василий Песков: «С ЭТИМ ЗАДАНИЕМ Я ПОЛЫСЕЛ И ПОТЕРЯЛ ЗУБЫ…»
Не стало Василия Пескова…
Он был целой эпохой в журналистике, куда пришёл почти случайно. В воспоминаниях он писал, что зелёным воронежским парнишкой работал разъездным фотографом в бытовой артели, снимал свадьбы, юбилеи – а случалось и покойников на похоронах. Сами понимаете, какая была работа… И чтобы отвлечься от неё, молодой Василий Песков в свободное время бродил в пригородах Воронежа с фотоаппаратом, ловя в объектив дивные виды, зверюшек, птиц. Однажды и произошёл тот случай, что перевернул его судьбу: Вася Песков ехал в электричке, и случайный попутчик посмотрел его снимки и посоветовал отнести их в редакцию воронежской газеты «Молодой коммунар». А потом публикации «воронежского парня», нового сотрудника «Коммунара», пришлись по вкусу московской «Комсомолке», которая и стала родной газетой Пескова.
Песков воспоминал, что у него хватило ума не браться за какую-то незнакомую тему, писать не по душе. Его коньком были очерки и зарисовки о том, что знал и любил: о природе… Тогда, кстати, об этом не писал никто. И с темой природы Василий Песков просто ворвался в большую журналистику…
Не все сейчас помнят триумфальные вехи этой журналистики. После суровых сталинских лет в годы оттепели оттаивали целые пласты – да что там пласты, залежи новых тем! Новых подходов…
Алексей Аджубей, главный редактор «Известий», зять генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, повернул на новый курс не только свою газету, но и заразил новыми подходами коллег из других изданий. Это был редкий случай, когда «родственник» высокопоставленного лица оказался талантом ко времени проявившимся.
В застёгнутые на все пуговицы официозные советские газеты хлынули новые темы. Впервые появилась, как её тогда называли, «кухонная тематика» – статьи её были не о мартенах и рекордных выплавках стали, а о простых житейских проблемах, обычных людях, человеческих характерах.
На журфаке нам рассказывали историю создания известным публицистом Аркадием Сахниным очерка 1961 года о том, как соседи, чужие люди, взяли в семью мужчину-инвалида, от которого отказалась родня. В «Известиях» тогда была такая придумка для поиска тем: «свежая голова». Освобождённый на день от всякой работы журналист сидел в комнате, где на столы вываливали мешки писем в газету. Хотел читать – читал, не хотел – так курил, метод был в полном освобождении от обязаловки… И вот Сахнин, ковыряясь в письмах, увидел одно письмо – за инвалида по какому-то вопросу хлопотала семья совсем с другой фамилией… Что за загадка? И очеркист поехал по адресу письма в Новосибирск, в семью грузчика Зарубина, 15 лет назад взявшую к себе «чужого» инвалида – фронтовика Григория Бродягина. Про которого Зарубин-старший, Александр Осипович, сказал Сахнину: «Так это формально чужой, а по эпохе он мне брат».
Намеренно делаю это отступление, чтобы было понятно, почему Василий Песков так стремительно ворвался в эту новую журналистику – он нёс глоток свежего воздуха и новую тогда тему любви ко всему живому на земле… Мы имели счастье много лет читать его раздел «Окно в природу» в «Комсомольской правде»… Это было целое направление, столбовая дорога, по которой потом зашагали новые авторы.
Не буду перечислять все книги и удачи Василия Пескова. Скажу только об удивительном сплаве фотографии и текстов, который привнёс Песков в русскую журналистику. Как ни удивительно, но он был одинаково талантлив в обеих этих ипостасях. Снимал Арктику, снимал Африку – какой-нибудь свесившийся хвост, выдававший спрятавшегося на ветке дерева леопарда… Писал чисто и пронзительно про речку своего детства. Много лет рассказывал многомиллионной аудитории читателей про «Таёжный тупик» – судьбу староверов Лыковых, курировал – пока было здоровье – последнюю таёжную отшельницу Агафью Лыкову…
С Василием Песковым, оказавшим влияние на меня и многих коллег, я лично знаком не был. Но однажды присутствовал на его встрече с нами, журналистами, в уфимском Доме печати, где он откровенно рассказывал о себе и творчестве. В то время только отшумело 70-летие СССР, к нему мастер фотографии Василий Песков взялся сделать большую иллюстрированную книгу: снимки с разных уголков страны. Там были и пустыни, и города Средней Азии, Прибалтика, Камчатка, Чукотка, Сибирь, Урал, Алтай, Черноземье, Украина… Задумка была в том, что для каждого уголка необъятной страны надобно было сделать один-единственный снимок, найти тот обо всем говорящий ракурс, который передаст «изюминку» этого места, этой республики или области…
«С этим заданием я полысел и потерял зубы!» – помнится, то ли пошутил, то ли всерьёз сказал Василий Песков аудитории из коллег-журналистов. Проблемы оказались отнюдь не художественно-фотографического плана, а в согласованиях… Цензура советской печати и книгоиздательства была тогда жёсткой. Действовало непременное цензурное правило – не снимать ничего сверху, чтобы не показывать горизонт и «привязку» объектов к местности. Это трактовалась в духе угрозы войны и обороны – капиталистические ракеты и бомбардировщики не должны иметь ориентиров для выбора целей на территории СССР.
Пресловутые «снимки сверху» в газетных номерах и мне попортили много нервов, ведь я более 10 лет проработал в секретариате на вёрстке городской газеты – и бегал согласовывать такие снимки в Главлит (так называли цензуру). Иной раз было легче оторвать от снимка на фотобумаге небо и торчавшие на горизонте «ориентиры» в виде заводских труб и церквей, чем доказывать безобидность панорамной или высотной фотографии…
А в фотоальбоме, выпущенном Василием Песковым к торжественной дате, многие потрясающие фотографии были «снимками сверху» – где-то был ракурс с самой макушки маяка в Прибалтике, под которым плескалось море, где-то – захватывающий дух широкий простор, ибо как покажешь душу России без этой шири и выси… Поэтому трудности при подготовке юбилейного альбома у Василия Песков были во многих местах СССР. И прежде всего, с местными властями, которые были в сто раз святее цензурного Главлита в Москве и боялись обзорных снимков…
«С военными было куда проще договориться насчёт съёмки с высоты, – рассказывал на этой встрече Василий Песков журналистам. – Тебя посадят в вертолёт – и повезут, куда скажешь, махнув рукой на цензуру. Со всех точек объект отснимешь. Но получить разрешение на съёмку с высоты у местных гражданских товарищей было очень-очень трудно…»