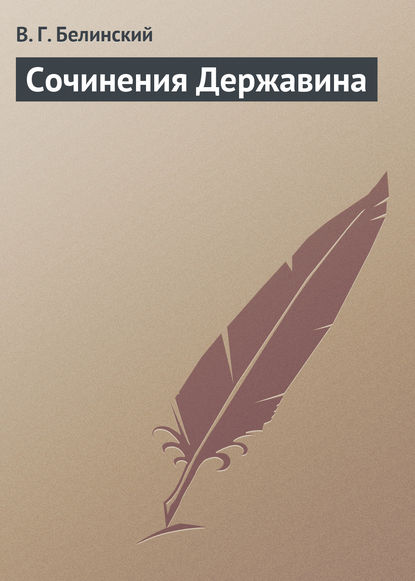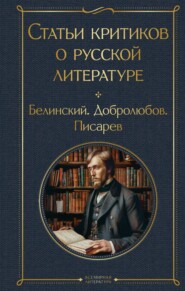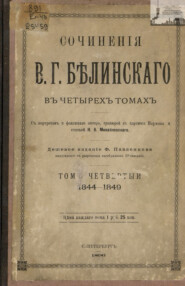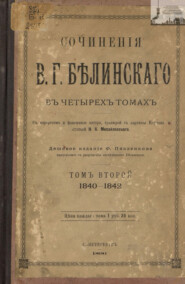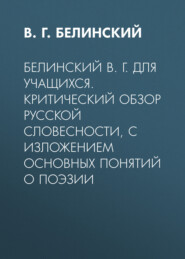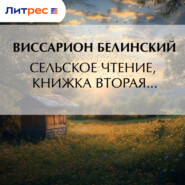По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сочинения Державина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Престанут грации трепать;
И, может быть, с тобой в разлуке,
Твоя уж Пенелопа в скуке
Ковер не будет распускать.
Не будет, может быть, лелеять
Судьба уж более тебя,
И ветр благоприятный веять
В твой парус: береги себя!
В заключительных стихах оды Державин особенно верен духу своего времени:
Доколь текут часы златые
И не приспели скорби злые, —
Пей, ешь и веселись, сосед!
На свете жить нам время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за коим нет.
Чувство наслаждения жизнию принимало иногда у Державина характер необыкновенно приятный и грациозный, как в этом прелестном стихотворении – «Гостю», дышащем, кроме того, боярским бытом того времени:
Сядь, милый гость, здесь на пуховом
Диване мягком отдохни;
В сем тонком пологу перловом,
И в зеркалах вокруг усни:
Вздремни после стола немножко;
Приятно часик похрапеть;
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь.
Случится, что из снов прелестных
Приснится здесь тебе какой:
Хоть клад из облаков небесных
Златой посыплется рекой,
Хоть девушки мои домашни
Рукой тебе махнут, – я рад:
Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни клад.
Итак, вот созерцание, составляющее основной элемент поэзии Державина; вот где и вот в чем отразился на русском обществе XVIII век и вот где является Державин выразителем русского XVIII века. И ни в одном из его стихотворений этот мотив не высказался с такою полнотою и яркостию идеи, такою торжественностию тона, такою полетистостью фантазии и таким громозвучием слова, как в его превосходной оде «На смерть кн. Мещерского», которая вместе с «Водопадом» и «Фелицею» составляет ореол поэтического гения Державина, – лучшее изо всего, написанного им. Несмотря на некоторую напряженность, на несколько риторический тон, составлявшие необходимое условие и неизбежный недостаток поэзии того времени, – сколько величия, силы, чувства и сколько искренности и задушевности в этой чудной оде! Да и как не быть искренности и задушевности, если эта ода – исповедь времени, вопль эпохи, символ ее понятий и убеждений! Как колоссален у нашего поэта страшный образ этой беспощадной смерти, от роковых когтей которой не убегает никакая тварь! Сколько отчаяния в этой характеристике вооруженного косою скелета: и монарх и узник – снедь червей; злость стихий пожирает самые гробницы; даже славу зияет стереть время; словно быстрые воды льются в море – льются дни и годы в вечность; царства глотает алчная смерть; мы стоим на краю бездны, в которую должны стремглав низринуться; с жизнию получаем и смерть свою – родимся для того, чтоб умереть; все разит смерть без жалости:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит!
От этого страшного миросозерцания потрясенный отчаянием дух поэта обращается уже собственно к человеку, о жалкой участи которого он прежде слегка намекнул:
Не мнит лишь смертный умирать
И быть себя он вечным чает, —
Приходит смерть к нему, как тать,
И жизнь внезапу похищает.
Увы! где меньше страха нам,
Там может смерть постичь скорее;
Ее и громы не быстрее
Слетают к гордым вышинам.
Что же навело поэта на созерцание этой страшной картины жалкой участи всего сущего и человека в особенности? – Смерть знакомого ему лица. Кто же было это лицо – Потемкин, Суворов, Безбородко, Бецкий или другой кто из исторических действователей того времени? – Нет: то был —
Сын роскоши, прохлад и нег!
О, XVIII век! о, русский XVIII век!..
Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский, ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился:
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? – он там. Где там? – не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»
Вникните в смысл этой строфы – и вы согласитесь, что это вопль подавленной ужасом души, крик нестерпимого отчаяния… А между тем исходным пунктом этого страшного созерцания жалкой участи человека – не иное что, как смерть богача… Можно подумать, что бедняк, умерший с голоду, среди оборванной семьи, в предсмертной агонии просящий хлеба, – не возбудил бы в поэте таких горестных чувств, таких безотрадных воплей… Что делать! у всякого времени своя болезнь и свой недостаток. Время наше лучше прошлого, а не мы лучше отцов наших; если мотивы наших страданий выше и благороднее, если ропот отчаяния вырывается из стесненной, сдавленной груди нашей не при виде богача, умершего от индижестии[2 - От французского слова indigestion – пресыщение. – Ред.], а при виде непризнанного таланта, страждущего достоинства, сраженного благородного стремления, несбывшихся порывов к великому и прекрасному…
Утехи, радость и любовь,
Где купно с здравием блистали,
У всех там цепенеет кровь
И дух мятется от печали:
Где стол был яств – там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались клики —
Надгробные там воют лики,
И бледна смерть на всех глядит…
Здесь опять непосредственным источником отчаяния – противоположность между утехами, рабостию, любовию и здравием и между зрелищем смерти, между столом с яствами и столом с гробом, между кликами пиршеств и воем надгробных ликов… Дети пировали за столом – грянул гром и обратил в прах часть собеседников: остальные в ужасе и отчаянии… И как не быть им в ужасе, когда их пронзила ужасная мысль: к чему же и пиры, если и ими нельзя спастись от смерти – а без пиров к чему же и жизнь?.. Да, наше время лучше времени отцов наших… Если хотите, и мы жадно любим пиры, и многие из нас только и делают, что пируют; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и с усердием продолжаются и в наше время, – это правда; но отчего же это уныние, это чувство тяжести и утомления от жизни, эти изнуренные, бледные лица, омраченные тоскою и заботою, этот —
… Увядший жизни цвет
Без малого в восьмнадцать лет? …[17 - Из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. II, строфа X). Белинский цитирует неточно. Должно быть:. . . Поблеклый жизни цветБез малого в осьмнадцать лет.]
Нет, нам жалки эти веселенькие старички, упрекающие нас, что мы не умеем веселиться, как веселились в старые, давние годы…
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат…[18 - Из стихотворения Лермонтова «Дума».]
Говоря о неверности и скоротечности жизни человека, поэт обращается к себе самому, – и его слова полны вдохновенной грусти:
Как сон, как сладкая мечта.
Исчезла и моя уж младость;
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен;
Желанием честей размучен.
Зовет, я слышу, славы шум.
И, может быть, с тобой в разлуке,
Твоя уж Пенелопа в скуке
Ковер не будет распускать.
Не будет, может быть, лелеять
Судьба уж более тебя,
И ветр благоприятный веять
В твой парус: береги себя!
В заключительных стихах оды Державин особенно верен духу своего времени:
Доколь текут часы златые
И не приспели скорби злые, —
Пей, ешь и веселись, сосед!
На свете жить нам время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Раскаянья за коим нет.
Чувство наслаждения жизнию принимало иногда у Державина характер необыкновенно приятный и грациозный, как в этом прелестном стихотворении – «Гостю», дышащем, кроме того, боярским бытом того времени:
Сядь, милый гость, здесь на пуховом
Диване мягком отдохни;
В сем тонком пологу перловом,
И в зеркалах вокруг усни:
Вздремни после стола немножко;
Приятно часик похрапеть;
Златой кузнечик, сера мошка
Сюда не могут залететь.
Случится, что из снов прелестных
Приснится здесь тебе какой:
Хоть клад из облаков небесных
Златой посыплется рекой,
Хоть девушки мои домашни
Рукой тебе махнут, – я рад:
Любовные приятны шашни,
И поцелуй в сей жизни клад.
Итак, вот созерцание, составляющее основной элемент поэзии Державина; вот где и вот в чем отразился на русском обществе XVIII век и вот где является Державин выразителем русского XVIII века. И ни в одном из его стихотворений этот мотив не высказался с такою полнотою и яркостию идеи, такою торжественностию тона, такою полетистостью фантазии и таким громозвучием слова, как в его превосходной оде «На смерть кн. Мещерского», которая вместе с «Водопадом» и «Фелицею» составляет ореол поэтического гения Державина, – лучшее изо всего, написанного им. Несмотря на некоторую напряженность, на несколько риторический тон, составлявшие необходимое условие и неизбежный недостаток поэзии того времени, – сколько величия, силы, чувства и сколько искренности и задушевности в этой чудной оде! Да и как не быть искренности и задушевности, если эта ода – исповедь времени, вопль эпохи, символ ее понятий и убеждений! Как колоссален у нашего поэта страшный образ этой беспощадной смерти, от роковых когтей которой не убегает никакая тварь! Сколько отчаяния в этой характеристике вооруженного косою скелета: и монарх и узник – снедь червей; злость стихий пожирает самые гробницы; даже славу зияет стереть время; словно быстрые воды льются в море – льются дни и годы в вечность; царства глотает алчная смерть; мы стоим на краю бездны, в которую должны стремглав низринуться; с жизнию получаем и смерть свою – родимся для того, чтоб умереть; все разит смерть без жалости:
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит!
От этого страшного миросозерцания потрясенный отчаянием дух поэта обращается уже собственно к человеку, о жалкой участи которого он прежде слегка намекнул:
Не мнит лишь смертный умирать
И быть себя он вечным чает, —
Приходит смерть к нему, как тать,
И жизнь внезапу похищает.
Увы! где меньше страха нам,
Там может смерть постичь скорее;
Ее и громы не быстрее
Слетают к гордым вышинам.
Что же навело поэта на созерцание этой страшной картины жалкой участи всего сущего и человека в особенности? – Смерть знакомого ему лица. Кто же было это лицо – Потемкин, Суворов, Безбородко, Бецкий или другой кто из исторических действователей того времени? – Нет: то был —
Сын роскоши, прохлад и нег!
О, XVIII век! о, русский XVIII век!..
Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский, ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился:
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? – он там. Где там? – не знаем.
Мы только плачем и взываем:
«О, горе нам, рожденным в свет!»
Вникните в смысл этой строфы – и вы согласитесь, что это вопль подавленной ужасом души, крик нестерпимого отчаяния… А между тем исходным пунктом этого страшного созерцания жалкой участи человека – не иное что, как смерть богача… Можно подумать, что бедняк, умерший с голоду, среди оборванной семьи, в предсмертной агонии просящий хлеба, – не возбудил бы в поэте таких горестных чувств, таких безотрадных воплей… Что делать! у всякого времени своя болезнь и свой недостаток. Время наше лучше прошлого, а не мы лучше отцов наших; если мотивы наших страданий выше и благороднее, если ропот отчаяния вырывается из стесненной, сдавленной груди нашей не при виде богача, умершего от индижестии[2 - От французского слова indigestion – пресыщение. – Ред.], а при виде непризнанного таланта, страждущего достоинства, сраженного благородного стремления, несбывшихся порывов к великому и прекрасному…
Утехи, радость и любовь,
Где купно с здравием блистали,
У всех там цепенеет кровь
И дух мятется от печали:
Где стол был яств – там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались клики —
Надгробные там воют лики,
И бледна смерть на всех глядит…
Здесь опять непосредственным источником отчаяния – противоположность между утехами, рабостию, любовию и здравием и между зрелищем смерти, между столом с яствами и столом с гробом, между кликами пиршеств и воем надгробных ликов… Дети пировали за столом – грянул гром и обратил в прах часть собеседников: остальные в ужасе и отчаянии… И как не быть им в ужасе, когда их пронзила ужасная мысль: к чему же и пиры, если и ими нельзя спастись от смерти – а без пиров к чему же и жизнь?.. Да, наше время лучше времени отцов наших… Если хотите, и мы жадно любим пиры, и многие из нас только и делают, что пируют; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и с усердием продолжаются и в наше время, – это правда; но отчего же это уныние, это чувство тяжести и утомления от жизни, эти изнуренные, бледные лица, омраченные тоскою и заботою, этот —
… Увядший жизни цвет
Без малого в восьмнадцать лет? …[17 - Из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. II, строфа X). Белинский цитирует неточно. Должно быть:. . . Поблеклый жизни цветБез малого в осьмнадцать лет.]
Нет, нам жалки эти веселенькие старички, упрекающие нас, что мы не умеем веселиться, как веселились в старые, давние годы…
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат…[18 - Из стихотворения Лермонтова «Дума».]
Говоря о неверности и скоротечности жизни человека, поэт обращается к себе самому, – и его слова полны вдохновенной грусти:
Как сон, как сладкая мечта.
Исчезла и моя уж младость;
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен;
Желанием честей размучен.
Зовет, я слышу, славы шум.