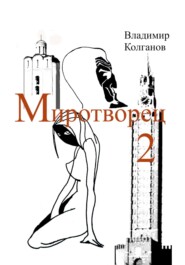По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Писатели и стукачи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ибо мы всех беззащитней, – и всех живучей!..
Крепче целуйтесь, ребята!
Хава нагила!
Наша кругом Отчизна.
Наша могила…
Быков Дмитрий – олицетворенная и явленная в слове израненность его рода и народа».
На мой взгляд, тут всё понятно, и нет необходимости эту тему обсуждать. В моей голове тоже с юных лет, не говоря уже о предках вплоть до двадцатого колена, засела мысль, что все мы – жертвы ненавистного ига. Я имею в виду нашествие орд Чингисхана и его последствия. Хотя теперь вроде бы говорят, что никакого ига вовсе не было. Но возникает вполне естественный вопрос: что раньше-то молчали? Теперь ничего уж не поделаешь, дело сделано, философы исписали тысячи страниц, доказывая вековую забитость русского народа под ненавистным сапогом то ли татарских, то монгольских ханов. Но вот ведь – тоже как-то выжили.
Новый тезис от Дидурова, загадочный смысл которого заставляет меня включить всё своё воображение, чтобы в этом разобраться: «Ему страшно жить и страшно умирать». Страшно умирать, если не успел за свою жизнь что-то существенное сделать – ну хотя бы посадить пару деревьев, вырастить сына или написать десяток книг. Думаю, что на этот счёт теперь, по прошествии пятнадцати лет после статьи Дидурова, Быков может быть вполне спокоен. Я даже не стану это больше обсуждать. Что же до страха жизни, то здесь, помимо воспоминаний об армейской дедовщине или ожидания погромов, есть более важная причина. Страшно жить, если временами возникает мысль, что всё напрасно, что посаженное дерево засохнет, что сын вырастет бездарем и неудачником, и даже написанные книги лет через двадцать будут сдавать в макулатуру по гривеннику за экземпляр.
Скорее всего, именно эта боязнь провала, опасение того, что сам скоро станет неудачником, вызвали у Быкова озлобление по отношению к собратьям по перу:
«С возрастом развилась у него мизантропия в отношении коллег. Быкова в писательском цеху боятся. Если б только кусался – ладно бы еще, но к тому же обнаружилась ядозубость в критических статьях».
Тут нечему удивляться. В конце 90-х и в начале нулевых у Быкова возникли проблемы с добыванием средств на пропитание семьи. Ни журналистика, ни бульварные романы, ни преподавание в школе не могли вывести из бедности. Кто-то был во всём этом виноват, и Быков в качестве объекта мести выбрал более удачливых писателей. А что прикажете делать, если нет сил сдержать свои эмоции, если откуда-то из подсознания так и прёт желание любым способом самоутвердиться, пусть не в качестве поэта и прозаика, но хотя бы в роли скандалиста? В тех обстоятельствах я бы не решился дать Быкову совет. Он сам, без посторонней помощи придумал, как привлечь к себе внимание. Что ж, в тот раз он угадал – сработало!
Глава 8. Донос в твёрдой обложке
В 1969 году в журнале «Октябрь» был опубликован роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?». Ничего подобного никто в послевоенной России не писал, поэтому эту публикацию встретили с огромным интересом. Роман рассказывал о творческой интеллигенции, но был направлен против либеральных настроений в обществе, против увлечения западным ширпотребом и массовой культурой. По сути, Кочетов предвидел события конца 80-х годов и попытался довольно примитивным способом обратить внимание общества на такую перспективу. Кое-кто из коллег Кочетова расценил это как публичный донос, причём не столько потому, что в некоторых персонажах можно было без труда узнать известных людей, но главным образом из-за того, что этот роман был расценен как призыв к «закручиванию гаек» после оттепели. Автора обвиняли даже в том, что он стал пособником КГБ в борьбе с инакомыслием. Поскольку публично высказать такое мнение было невозможно, оппоненты выбрали весьма оригинальный способ – почти одновременно появились две пародии на роман, распространявшиеся в самиздате: «Чего же ты хохочешь?» Сергея Смирнова и «Чего же он кочет» Зиновия Паперного. Впрочем, ни оригинал, ни пародии на него по своим литературным качествам не заслуживают подробного разбора.
Куда интереснее разобраться в психологии автора романа, который ещё в конце сталинской эпохи прославил своё имя романом «Журбины». На этот счёт довольно убедительно высказался Евгений Попов:
«Трагедия Всеволода Кочетова, простого человека из Новгорода, вознесенного на советский литературный Олимп, заключалось в том, что он был на редкость настоящим советским писателем, о котором даже и не мечталось партии в ее сладких идеологических дремах. Кочетов все воспринимал слишком всерьез».
Всё бы ничего, но это «слишком всерьёз» вызывает у меня недоумение. Можно подумать, что все остальные граждане Советского Союза только и делали, что подшучивали над собой и над другими, включая членов правительства и Политбюро. Вряд ли этим можно объяснить протест семерых инакомыслящих против ввода советских войск в Чехословакию. Уж они-то всё происходящее восприняли значительно серьёзнее.
Иного мнения о Кочетове придерживается Михаил Золотоносов:
«Из всех советских писателей Кочетов – самый главный мракобес, который боролся с интеллигенцией всех толков. Самый главный, самый мрачный. Если изучать соцреализм, то Кочетов со всеми своими произведениями это и есть самый породистый, самый типичный соцреализм».
По мнению критика, Кочетов писал роман под диктовку КГБ, при этом воевал сразу на три фронта – против либерального «Нового мира» и его главного редактора Твардовского, против русских националистов во главе с писателем Леонидом Соболевым, и даже против ЦК КПСС, который уже в то время позволял себе заигрывания с либералами. Борьба против ЦК – это достойно всяческого уважения вне зависимости от цели противостояния! Если только все эти войны не являются плодом воображения «всеведущего» критика.
Более внятно Золотоносов высказался по поводу узнаваемости ряда персонажей романа, несмотря на вымышленные имена:
«В этом смысле он предвосхитил большое количество подобных произведений, которые появились в начале 90-х годов. Я уж не говорю про ''Заповедник'' овлатова или его произведения про журнал ''Костер'', где люди себя узнавали, но в начале 90-х появилась масса произведений, где описывали собственные места работы и всех людей, которые там находятся».
В принципе, это вполне логичный метод, предоставляющий авторам немалые возможности благодаря «сокрытию» реальных исторических лиц под выдуманными именами. Когда в стандартных мемуарах автор вкладывает в уста своих героев какие-то фразы, созданные его воображением, это вызывает только сожаление. Ещё более прискорбно, когда автор впихивает в их головы мысли, которых там сроду не бывало. Совсем другое в случае с переименованными персонажами – тут полное раздолье для вымысла, основанного на фактах и на логике. Увы, нередко вместо новых образов и мыслей в таких произведениях встречаем банальное изложение тех или иных событий, представляющее интерес для узкого круга посвящённых.
Оставим взбудораженную романом «настоящего советского писателя» столицу и перенесёмся в Ленинград, где до середины 50-х годов обитал Кочетов, а в начале 60-х безуспешно пытался стать писателем Сергей Довлатов. В те времена там творилось что-то невообразимое – идеологическое давление на писателей достигло небывалого масштаба. В итоге к концу следующего десятилетия почти все «нерукопожатые» издательствами и парторганами «непризнанные гении» разъехались по заграницам – остался почему-то лишь Валерий Попов. Видимо, всё просчитал и предпочёл ждать своего часа в родных пенатах.
События, предшествовавшие «хрущёвской оттепели», описаны в книге Михаила Золотоносова «Гадюшник. Ленинградская писательская организация: Избранные стенограммы с комментариями». Вот как «Новое литературное обозрение» анонсировало этот труд:
«Восемьсот страниц отвратительных пасквилей, доносов, погромных речей, всего этого жутковато-комичного копошения в ментальной преисподней патентованных совписов – вот она советская «Война и мир», экспозиция толстовского роя, только не пчелиного, нет, армии жуков-навозников, дескрипция скучного ужаса со всеми почесываниями, привычками и персональной историей каждого попавшего под беспощадный исследовательский свет персонажа».
Тогдашнюю атмосферу в ленинградской писательской среде нетрудно представить себе, прочитав отрывок из выступления главного редактора ленинградского журнала «Нева» Сергея Воронина на партсобрании в 1957 году:
«Группочка довольно влиятельных писателей, которая, как это ни странно для нашего времени и строя, командует в издательствах, оказывает давление на газеты и журналы, шумит в секциях. Которая может организовать рецензии в печати, и если надо, то вознести угодных ей и, если надо, замолчать или разнести неугодных… Эта группочка невелика. Но это сплоченная группка, для которой свои личные интересы неизмеримо выше общественных. Которая выбросила лозунг: "Захватывать ключевые позиции". И захватывает там, где это ей удается».
Здесь речь идёт о ленинградских писателях Израиле Меттере и Юрии Германе – один из них аплодировал Зощенко на «погромном» собрании ленинградских писателей в 1946 году, ну а другой написал о Зощенко хвалебную статью. Видимо, эти и другие, оставшиеся неизвестными нам события дали повод главному редактору для подобных обвинений. Известно, что в молодёжном объединении при издательстве «Советский писатель» какое-то время под руководством Меттера набирался ума-разума и Сергей Довлатов.
Пожалуй, самое время обратится к судьбе этого ленинградского писателя, попытки которого заявить о себе пришлись на более спокойный период, когда закончились, в основном, погромы, но цензоры и ревнители идейной чистоты по-прежнему оставались на своих местах. Не мудрено, что такое положение вызывало гневную реакцию непризнанного литератора, вот что писал Довлатов в письме своей гражданской жене Татьяне Зибуновой – с ней он познакомился, когда работал в Таллине:
«Официальная литература в нашем городе катастрофически мельчает. Скоро выродится даже стойкая категория умных негодяев (Гранин, Дудин…). Останутся глупые негодяи и жулики. Молодая поросль пьет бормотуху и безумствует».
К концу 70-х годов растаяли последние надежды, за исключением нескольких «заказных» рассказов все рукописи издательствами отвергнуты, и Довлатов принимает радикальное решение. Михаил Веллер в своей книге «Ножик Сергея Довлатова» вполне резонно замечает, что «большое это дело – вовремя уехать в Америку».
На первых порах в Америке тоже не везёт, поэтому Довлатов продолжает изливать всю желчь на окружающих его людей. Вот фраза из ещё одного письма Татьяне Зибуновой: «Люди здесь страшно меняются, Парамонов стал черносотенцем и монархистом». Но более откровенно Довлатов высказывается в письма другу и земляку, также перебравшемуся в Штаты, Игорю Ефимову:
«Седых – просто негодяй. Субботин и Вайнберг – исчадья ада, хуже Козлова с Воскобойниковым. Вообще, говна здесь не меньше, чем в Ленинграде. Что приводит к философским обобщениям. Ваш друг Поповский… Ладно, не буду. Парамонов – рехнулся. Люда тоже. Юз играет амнистированного малолетку, будучи разумным, практичным, обстоятельным, немолодым евреем».
Не стану пояснять, о ком идёт тут речь, замечу лишь, что «Люда» – это Люда Штерн, которая была советчицей, а в некоторых случаях даже ангелом-хранителем Довлатова. Всем этим оскорблениям, которыми он осыпал знакомых журналистов и литераторов в письме, есть очень простое объяснение. Когда нам не везёт, гораздо проще искать причину не в себе, а в окружающей жизни, в тех же приятелях, которые не смогли или не захотели нам помочь, или в других литераторах, которые
Облыжные обвинения и ёрничество весьма характерны для писем Довлатова этого периода. Любопытное наблюдение он сделал и в письме Юлии Губаревой:
«Многие героические диссиденты превратились либо в злобных дураков, как М., либо (как это ни поразительно) в трусов и приживалов из максимовского окружения, либо в резонеров, гримирующихся под Льва Толстого и потешающих Запад своими китайско-сталинскими френчами и революционно-демократическими бородами».
Скорее всего, инициалом «М» Довлатов зашифровал Владимира Максимова – основателя и главного редактора парижского журнала «Континент» он не решался обругать даже в письме своему приятелю, во избежание огорчительных последствий.
В начале 80-х Довлатов участвует в создании газеты «Новый американец». Вроде бы появилась возможность для опубликования своих заметок, но и тут ему не нравится, о чём и сообщает в письме Ефимову:
«Я здесь веду себя хуже и терпимее ко всякой мерзости, чем в партийной газете. Но и стукачей там было пропорционально меньше, и вели они себя не так изощренно. Боря Меттер, например, оказался крупным негодяем. Орлов – ничтожество и мразь, прикрывающийся убедительной маской шизофрении. Он крайне напоминает распространенный вид хулигана, похваляющегося тем, что состоит на учете в психоневралгическом диспансере… Короче, мне все опротивело».
В сборнике рассказов «Наши», вышедшем в 1983 году, достаётся даже Бродскому. Довлатов, вспоминая о своей тётке, которая работала секретарём редакции в издательстве, высказал и собственное отношение к творчеству поэта:
«Тетка редактировала Юрия Германа, Корнилова, Сейфуллину. Даже Алексея Толстого. Среди других в объединение пришел Иосиф Бродский. Тетка не приняла его. О стихах высказалась так: "Бред сумасшедшего!" (Кстати, в поэзии Бродского есть и это)».
А ведь Бродский был чуть ли не главным его благодетелем в Америке, помогая сделать литературную карьеру. Вроде бы Довлатов должен быть по гроб жизни обязан будущему нобелевскому лауреату, и нечего по поводу его стихов язвить. Однако, как выясняется, одно другому не мешает.
Особые отношения связывали Довлатова с Игорем Ефимовым – именно Игорь Маркович, ещё в то время, когда оба жили в Ленинграде, внушил Сергею Донатовичу, что он талантливый писатель. В Америке дружба двух бывших ленинградцев продолжалась. Несколько книг Довлатова появились на прилавках магазинов благодаря Ефимову, который основал маленькое издательство под громким и знакомым каждому питерцу названием «Эрмитаж». В свою очередь, Довлатов размещал бесплатные объявления издательства в газете «Новый американец», основанной опять же выходцами из Ленинграда.
Дружба двух новоявленных американцев длилась семь лет, а закончилась в один момент. Судя по всему, причиной стали какие-то претензии, связанные с денежными делами, либо набиравший ход Довлатов стал относиться с некоторым пренебрежением к старому товарищу. Но год спустя «больной и старый» Довлатов сделал попытку примирения, написав Ефимову краткое письмо, в котором попросил прощения. Ефимов ответил многостраничным посланием, изложив в нём по пунктам все свои претензии, а в заключение дал довольно язвительный совет:
«Олеша прославился повестью "Зависть". У Вас есть все данные, чтобы написать на том же уровне повесть "Раздражение". Сюжет даже неважен. Это может быть просто серия портретов людей, сильно задевших вас в жизни. Но не умелые зарисовки с натуры (в этом-то Вы набили руку), а портреты – в буре тех чувств, которые эти люди в Вас вызвали. Мне кажется, можно взять любой персонаж, проходящий сквозной линией через Ваши писания».
Совет вполне разумный – мне уже не раз приходилось писать о том, что если не хватает вдохновения, его заменит злость. Впрочем, Ефимов предпочёл другое слово – «раздражение». А вот как ответил своему земляку Довлатов:
«Единственное, с чем я могу согласиться – это моя страшная раздражительность и невоздержанность, которые не полностью, но хоть процентов на 50 связаны с насильственной трезвостью, но с этим я согласен, хотя все-таки надеюсь, что между раздражительностью и ненавистью есть большая разница… Справедливо и то, что по натуре я очернитель, как бы я ни старался представить этот порок – творческим занятием, но это – правда».
Признание это немного запоздало. Видимо, к 1989 году Довлатов почувствовал, что наступил творческий тупик – даже то, что написал, ещё бедствуя в Таллине и Ленинграде, всё-всё уже опубликовано. Есть кое-какая популярность, а настоящей славы почему-то нет. Тут самое время покаяться в грехах – авось, Господь наш сжалится и обеспечит требуемую конъюнктуру. Потому и писал Довлатов эти письма старому приятелю.
Иную причину эпистолярных откровений Довлатова сформулировал критик Марк Амусин в 2003 году:
«Довлатов самообнажается, он мазохистски упивается своим позором, непонятно, что ему больше требуется: объясниться и оправдаться, получить прощение и возвращение "человеческих отношений", или еще сильнее расчесать зудящие болячки своей совести, полностью совпасть с литературным амплуа кающегося, сокрушающегося грешника».