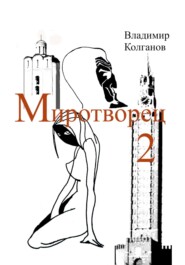По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Писатели и стукачи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Насколько Мейерхольд был искренним в этих откровениях, не берусь судить. Тут надо бы иметь в виду и его актёрское прошлое, и всем известный принцип, когда цель оправдывает средства. В данном случае этим средством была безудержная лесть.
Несмотря на поддержку влиятельных людей, далеко не всем было по нраву подобное искусство. Знаменитый актёр Александр Южин-Сумбатов, приверженный идеям традиционного театра, был в ужасе от вывертов, которые он наблюдал в ГосТиМе:
«Я прошу совершенно освободить русского актера, его трудовую личность, как кузнецов, как пахарей, как кого угодно. Освободить от всех опек мундирных, чтобы ни в коем случае в наши дела не вмешивались блестящие пуговицы или эти пошлые кожанки».
Этот протест против «нового искусства» был адресован в 1920 году непосредственно наркому просвещения Луначарскому, но как нетрудно догадаться, не имел должного эффекта. Нарком считал своей обязанностью поддержать идею «Театрального Октября», провозглашенного Всеволодом Мейерхольдом.
В начале 1924 года намечалось празднование полувекового юбилея театрального новатора. Накануне этого торжества Луначарский получил письмо руководителя Управления государственными академическими театрами Елены Малиновской:
«Сейчас настал момент, когда я считаю гражданским и коммунистическим долгом выступить в роли обвинителя против гр. Мейерхольда. Предстоит сверхпомпезное чествование советским органом (Московским Советом) в течение 3-х дней, чего не было ни с одним из наших крупнейших юбиляров – народных артистов. Очевидно, такая честь выпала на его долю как на "вождя театральной революции". На запрос юбилейной комиссии, какое участие приму я в чествовании, я, конечно, ответила отказом. Единогласно высказались против участия весь Художественный Совет Большого театра, Художественный театр и его студии».
Обращение к Луначарскому вполне оправдано, поскольку он, в отличие от Троцкого, хотя и продолжал поддерживать Мейерхольда, но был уже не в восторге от всей этой «левизны» в искусстве. То ли к его мнению не очень-то прислушивались, то ли он не решался противоречить Троцкому, но ситуация, по мнению многих театральных деятелей, грозила катастрофой. Поэтому и появились в письме Малиновской строки, посвящённые спектаклю «Земля дыбом» и её автору:
«Мне представляется гр. Мейерхольд психически ненормальным существом, проделывающим кошмарные опыты… Весь его "труд" посвящён "первому красноармейцу Д. Троцкому". И вот что получилось: Армия – стадо баранов. Крестьяне – трусы, рабы. Вожди – чеховские нытики, сознающиеся в том, что они не знают, что делать, упускающие все моменты, пассивно ожидающие смерти, убегающие после восстания… Комсомол – жалок и смешон… Мозги у всех должны стать дыбом после этой постановки, но, если я нормальна, я утверждаю, что впечатление одно: вот Ваши лозунги, а вот что Вы собой представляете на деле и поэтому "Земля дыбом" не агитационная пьеса, как нам внушают гипнотизёры, а ультроконтрреволюционная».
Понятное дело, что этого спектакля я не видел, но может быть, и впрямь была права Елена Малиновская? А если ещё припомнить и восторги Юрия Елагина по поводу «Мандата», то вырисовывается нечто прямо противоположное тому, о чём Мейерхольд громогласно заявлял с трибуны. Возможно, большевистскую революцию Мейерхольд воспринял как театральное представление, как клоунаду, балаган, поэтому надел кожанку и нацепил на фуражку красную звезду. В самом деле, с какой стати сын пензенского винозаводчика вдруг воспылал любовью к большевикам, проникся идеями марксизма-ленинизма? Стоит обратить внимание и вот на что: если Мейерхольд пытался ставить не сатиру, а что-нибудь действительно патриотическое, у него ничего не получалось. Пожалуй, единственное исключение – спектакль «Последний решительный» по пьесе Всеволода Вишневского. Кстати, аналогичная ситуация и с Булгаковым. Даже Эрдман, если и писал что-то в духе «времени великих свершений», то ограничивался диалогами для художественных фильмов.
Понимание того, что Мейерхольд вовсе не советский режиссёр, возникло и у Билль-Белоцерковского. Приветствуя в 1928 году деловую поездку Мейерхольда за границу, он заявлял, что «рабочий класс ничего от этой поездки не потеряет». Здесь имелась в виду и перспектива невозвращения Мейерхольда в СССР. Однако Билль-Белоцерковский не понимал главного: Сталин с помощью деятелей искусства пытался создать на Западе образ цивилизованной державы. Поэтому, в частности, выпускал за границу Илью Эренбурга и Бориса Пильняка. Поэтому и защищал до поры до времени талантливого режиссёра от нападок:
«Мейерхольд как деятель театра, несмотря на некоторые отрицательные моменты, выверты, неожиданные и вредные скачки от живой жизни в сторону "классического" прошлого, несомненно связан с нашей советской общественностью и, конечно, не может быть причислен к разряду "чужих"».
Понятно, что причисление талантливых художников к «чужим» означало бы не только снижение интереса к социалистической державе за границей, но и доказывало бы, что люди творческие, то есть настоящая интеллигенция, не поддерживают происходящих в России перемен. В первые годы после окончания гражданской войны большевики всеми силами пытались привлечь интеллигенцию на свою сторону. Пришлось Сталину наставлять на путь истинный и наиболее оголтелых деятелей из Российской ассоциации пролетарских писателей:
«Не странно ли, что, ругая Б.-Белоцерковского "классовым врагом" и защищая от него Мейерхольда и Чехова, "На Литпосту" не нашел в своем арсенале ни одного слова критики ни против Мейерхольда (он нуждается в критике!), ни, особенно, против Чехова? Разве можно так строить фронт? Разве можно так размещать силы на фронте? Разве можно так воевать с "классовым врагом" в художественной литературе?»
Однако по мере того, как власть убеждалась в неэффективности сотрудничества с попутчиками, критика становилась всё злее, всё напористее. Особенно преуспели в этом деятели из РАПП и Главреперткома. В своих воспоминаниях Илья Эренбург приводил отрывок из письма Мейерхольда в 1930 году:
«Театр может погибнуть. Враги не дремлют. Много есть в Москве людей, для которых театр Мейерхольда бельмо на глазу. Ох, долго и скучно об этом рассказывать!»
Тучи стали сгущаться в 1936 году, когда уже не было рядом с Мейерхольдом ни Троцкого, ни Луначарского. Заведующий отделом культурно-просветительной работы в МК ВКП(б) Вениамин Фурер, друг Исаака Бабеля, во время своего выступления на многодневной дискуссии работников московских театров потребовал от Мейерхольда «решить, что более важно для него: восторженные ли взвизгивания его поклонников или суровая большевистская критика»:
«Было бы нелепо отрицать роль Мейерхольда в развитии советского театра, хотя и надо более осторожно определять её, чем роль "вождя театрального Октября", но никто никогда не пойдет на канонизацию того, что делает Мейерхольд».
Эти слова можно расценить как предупреждение. А в конце следующего года последовал новый удар по театру Мейерхольда. «Правда» поместила статью председателя Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР Платона Керженцева «Чужой театр»:
«В те дни, когда наши театры показывают десятки новых советских произведений, отражающих нашу эпоху, образ Ленина, этапы революционной борьбы, когда тысячные аудитории горячо приветствуют актеров, режиссеров, композиторов и драматургов, сумевших отразить в своем творчестве величайшие проблемы социализма, борьбу с врагами народа – театр им. Мейерхольда оказался полным политическим банкротом… Разве нужен такой театр советскому искусству и советским зрителям?»
В январе 1938 года, через несколько дней после статьи в «Правде», Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР принял постановление о ликвидации ГосТИМа. В этом постановлении были следующие строки:
«Театр им. Мейерхольда окончательно скатился на чуждые советскому искусству позиции и стал чуждым для советского зрителя… Театр им. Мейерхольда в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству, насквозь буржуазных, формалистических позиций… оказался полным банкротом в постановке пьес советской драматургии… К 20-летию Октябрьской революции театр им. Мейерхольда не только не подготовил ни одной постановки, но сделал политически враждебную попытку поставить пьесу Габриловича "Одна жизнь", антисоветски извращающую известное художественное произведение Н. Островского "Как закалялась сталь"».
Что тут можно возразить? Если партия признала театр «чуждым для советского зрителя», если даже артисты московских театров поддержали решение о ликвидации ГосТиМа, поздно кого-то переубеждать. Последние два года Мейерхольд только и делал, что пытался оправдаться, объясняя свои взгляды на искусство. Вот и на собрании театральных работников Москвы в марте 1936 года приходилось защищаться от упрёков в мейерхольдовщине, которую, по утверждению оппонентов, Всеволод Эмильевич «должен искать в себе, а не в других»:
«Меня приглашают меньше говорить о других и больше о себе. На это я могу ответить: "Мое актерское и режиссерское тело так изранено шпагами критиков, что уж нет, кажется, ни одного живого места"… Охлопков сообщает: "Есть художники, которые под предлогом, что у них нет современных, наших, советских пьес, бегут от действительности". Это, конечно, намек на меня. Беря классические пьесы, я только тем и занимаюсь, что приближаю их к современному зрителю. Я так расставляю действующие силы этих пьес, что они становятся действующими в классовой борьбе. Я определяю их назначение в структуре спектакля с этой классовой направленностью. Где же тут бегство от действительности?»
Вряд ли политическая риторика, упоминание о классовой борьбе могли кого-то убедить в искренности заявлений Мейерхольда. Обвинения следовали одно за другим: уход от реальных проблем общества, увлечение формализмом…
Через год на собрании театральных работников Москвы Мейерхольд снова попытался объяснить свою позицию. Теперь он уже не ссылался на классовую борьбу, а попытался привлечь в союзники покойного вождя пролетариата:
«Ленин в беседе с Кларой Цеткин сказал: "Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням, даже нескольким тысячам общего количества населения, исчисляемого миллионами. Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс. Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими". Пафос высоких требований к нашему искусству, как к ясному, простому искусству, видим мы в статьях Центрального органа нашей партии. И мы знаем, что эти статьи вызваны таким же отношением к искусству, каково оно было у Ленина. Самое главное в искусстве – простота. Но у каждого художника свое представление о простоте. В поисках простоты художник не должен терять особенностей своего лица».
В этих словах присутствует явное лукавство. С одной стороны, Мейерхольд признаёт, что искусство должно быть понятно народу, а с другой – заявляет о субъективном представлении о простоте у каждого художника. Но где гарантия, что народ поймёт этого художника?
А вслед за весьма сомнительным, размытым определением простоты следуют противоречивые оправдания права художника на эксперимент:
«В здоровом экспериментаторстве надо различать больное и то, что должно быть отброшено. А бывает и так: необходимо то, что должно быть отброшено».
Нет, такими аргументами никого не удастся переубедить. А дальше больше – большевистская фразеология и ссылка на стахановское движение как на последний аргумент в этом безнадёжном споре:
«Если мы вчитаемся повнимательнее в громадное количество статей, появляющихся в Центральном органе партии… то мы увидим, что во всех них есть… призыв к самому пролетариату быть зорким и бдительным в отношении тех произведений искусства, которые ему подаются. Ведь, в сущности говоря, товарищи, могли ли эти статьи появиться до стахановского движения? Никогда… Когда Стаханов, который сыгнорировал установленные учеными нормы, который перехлестнул эти нормы, дал установку на новые, на свои нормы… В области искусства сам пролетариат хочет нарушить все нормы, которые установлены нами, деятелями искусства».
Мейерхольд и в этих словах не убедителен. Сравнение художественного творчества с работой в угольном забое абсурдно, поскольку результат труда шахтёра налицо, а как в перспективе повлияет на зрителей очередной спектакль в ГосТиМе – это совсем не очевидно. Нельзя судить только по овациям преданных поклонников.
Последняя попытка оправдаться была предпринята в ноябре 1938 года на заседании режиссёрской секции Всероссийского театрального общества. После того, как не помогла ссылка на Стаханова, Мейерхольд уже не говорит о праве художника на новаторство, на собственное представление о простоте:
«Вы знаете, как наша партия поставила сейчас вопрос об интеллигенции, – ведь это в первую очередь относится к нам. Мы и являемся той интеллигенцией, которая должна по зову нашей партии влиять на тех людей, с которыми мы встречаемся… И такой главный вопрос, как вопрос освоения марксизма-ленинизма, изучения истории ВКП (б). Режиссеры должны этим овладеть, потому что в их мировоззрении на каждом шагу, в каждом миллиметре работы на сцене, везде это должно сквозить».
Думаю, что после столь неуклюжей попытки Мейерхольда доказать свою лояльность власти всем присутствующим стало ясно, что дни театра сочтены. А через несколько месяцев после закрытия театра настала очередь самого Всеволода Эмильевича.
Существует множество версий причин закрытия театра и ареста Мейерхольда. К примеру, Леонид Утесов объяснял это так:
«Сталин не любил знаменитых людей, которые своей славой не были обязаны ему. Только из рук Сталина слава должна была приходить к человеку».
Ещё более странная версия гласит, что всему виной оказался спектакль «Дама с камелиями». Будто бы Сталин находился в зале и понял «подтекст спектакля, стремление к свободной от идеологии, красивой, обеспеченной человеческой жизни». Однако Сталин никогда не посещал театра Мейерхольда, поскольку там не было правительственной ложи.
Более убедительно предположение, что судьба Мейерхольда была решена после неудачной инсценировки романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Борис Голубовский делился своими впечатлениями от просмотра:
«Я видел у Мейерхольда "Как закалялась сталь", тогда роман в инсценировке Евгения Иосифовича Габриловича назывался "Одна жизнь"…. Я бы сказал так: это был Николай Островский, распятый на кресте. Была там такая сцена: Павка в цеху борется с вредителем. Тот швыряет Корчагина на приводной ремень, включает ток. Ремень начинает подниматься, и вот Корчагин, распятый, возносится над сценой…»
Спектакль готовился к двадцатилетию Октября и задумывался как высокая трагедия. Однако уже после второго просмотра спектакль был запрещён, а вслед за тем появилась та самая статья «Чужой театр», которая предшествовала решению о закрытии театра.
В книге Соломона Волкова «Свидетельство», написанной от лица Дмитрия Шостаковича, есть слова, дополняющие эту версию:
«Прямо перед тем, как Театр Мейерхольда был закрыт, на его спектакле побывал Каганович. Он был очень влиятелен: от его мнения зависело будущее как театра, так и самого Мейерхольда. Как и можно было ожидать, спектакль Кагановичу не понравился».
Видимо, Сталин послал Кагановича разобраться, после чего и была решена судьба театра. Но почему вождю этого показалось мало – зачем понадобился арест?
Режиссёр театра Мейерхольда Леонид Варпаховский считал, что во всём виноваты два письма Сталину, написанные женой Мейерхольда, Зинаидой Райх, втайне от своего мужа. Первое было написано весной 1937 года – это весьма сбивчивое изложение претензий к вождю и выражение надежды на то, что Сталин защитит Мейерхольда от нападок. Однако Варпаховский утверждал, что было ещё одно письмо, написанное примерно за месяц до ареста. И будто бы оно было оскорбительным для Сталина. Копия письма была изъята сотрудниками НКВД при обыске квартиры Мейерхольда, однако нет доказательств, что оно было отправлено.
Ещё одну версию изложил ближайший сотрудник Мейерхольда и его биограф Александр Гладков в своих воспоминаниях о событиях 1936 года:
«На спектакль "Дама с камелиями" трижды, почти подряд, приезжал один высокопоставленный товарищ из числа ближайших личных сотрудников Сталина. Однажды он зашел к З.Н. Райх или как-то передал ей (сейчас я уже не помню), что он очень сожалеет, что в помещении на улице Горького, 5, где тогда помещался ГосТИМ, нет правительственной ложи и поэтому Сталин не может приехать на спектакль, а то, он уверен, спектакль несомненно понравился бы ему, а это имело бы большие последствия для театра и самого Мейерхольда. Он добавил, что не исключена возможность специального приема Мейерхольда Сталиным, с тем, чтобы В. Э. высказал ему свои пожелания».
По словам Гладкова, Мейерхольд не смог самостоятельно принять решение и обратился за советом к друзьям. Гладков и Зинаида Райх предлагали согласиться на встречу, а вот Борис Пастернак категорически возражал:
«Он советовал не искать встречи со Сталиным, потому что ничего хорошего из этого все равно получиться не может. Он рассказал о печальном опыте своего телефонного разговора со Сталиным после ареста поэта О. Э. Мандельштама, когда Сталин, не дослушав его, повесил трубку. Он пылко доказывал В. Э., что недостойно его, Мейерхольда, являться к Сталину просителем, а в ином положении он сейчас быть не может, что такие люди, как Сталин и Мейерхольд, должны или говорить на равных, или совсем не встречаться… Когда, через много лет, я напомнил Б. Л. об этом разговоре, он застонал, как от внезапного приступа зубной боли, и стал обвинять себя в наивности и прекраснодушии».
Сама по себе встреча не могла Мейерхольду повредить, если бы он искренне признался в заблуждениях и убедил вождя в своей лояльности. Способен ли был Мейерхольд на это? Судя по текстам его выступлений на совещаниях работников театра, в оправдание своей позиции он произносил немало слов, однако его аргументы не могли убедить ни коллег, ни тем более вождя. Так что прав был Пастернак – встреча со Сталиным не помогла бы Мейерхольду. Однако и отказ от неё не мог ему повредить, поскольку официального приглашения к Сталину всё же не было.