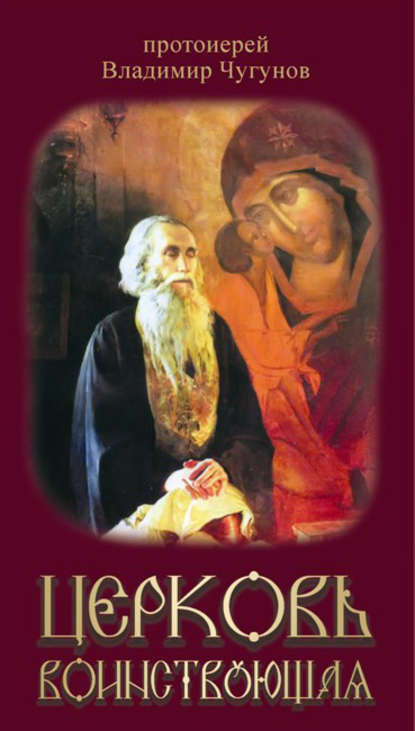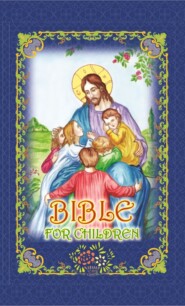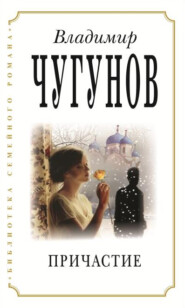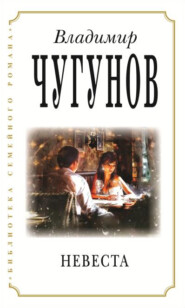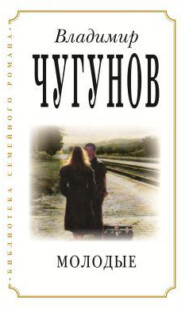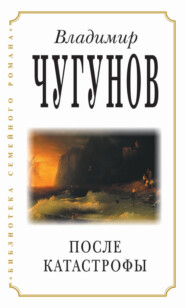По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Церковь воинствующая
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А надо сказать, когда лежал я в Брянской больнице, дал обет преподобному Сергию: «Слышал-де я, плохие у тебя монахи, преподобный отче Сергие, а я ещё хужее, прими меня в число братии своей». Такая, значит, притча. И обет нарушить, и старца ослушаться не могу. Стал молиться, чтоб Господь сам разрешил. И снится мне, пришёл будто к нам покойный старец Мелхиседек. «Христос посреди нас… – похристосовался он со старцем Даниилом и сказал: – Не посылай ты его к «Троеручице», пошли к преподобному Сергию. А ты проводи его», – обратился он к стоявшему тут ангелу. И тут же мы поднялись на воздух и оказались перед воротами Лавры. Никогда я не видел её прежде. И был не мало удивлён красотою и хорошо запомнил надвратную икону Спасителя, по обе стороны в рост Божия Матерь с Иоанном Крестителем, на коленях преподобные Сергий и Никон.
Проснулся – ничего не пойму. Свет дымный столп в окно тянет. Горит лампадка, слышу стук в перегородку. Захожу:
– Благословите, батюшка.
Благословил он и говорит:
– Собирайся в путь. Господь благословляет тебя к «Троице», к преподобному Сергию.
И вот я в Сергиевом Посаде. Подхожу к Лавре и с изумлением узнаю виденную во сне икону.
Поселился я, как обычно, в гостинице. Слышу, все толкуют о каком-то старце Варнаве. Я интересуюсь. Они: «Иди в Гефсиманский скит, сам увидишь». Иду. Народу, как в Оптиной и даже больше, всем старец нужен. Ну, думаю, где мне попасть. А он, человек Божий, вышел на крылечко и кричит:
– Где тут лаврский монах? Поди сюда скорей!
Никто не откликается. Я сам озираюсь: и впрямь, никого в подряснике нет. А батюшка спустился с лесенки и всё своё:
– Дайте же пройти лаврскому монаху.
Пробрался сквозь толпу прямо ко мне, взял за руку.
– Ты, разве, не слышишь, что тебя зовут?
– Я, батюшка, не лаврский монах, я из Белых Берегов.
– Знаю, что там жил, а теперь здесь будешь.
Ввел в келью, побеседовал со мной.
– Живи у преподобного, да меня, убогого, не забывай.
– А если меня не возьмут?
– Как так? Они уже тебя возле ворот дожидаются. Иди.
Пошёл я к воротам: действительно, игумен с двумя монастырскими монахами ждут кого-то. Подошёл к ним под благословение, так, мол, и так.
И приняли, конечно.
3
С того дня началось моё сораспятие. Почти ни от кого не находил я сочувствия, ни с кем не сходился.
Начал, было, молиться, но чётки отобрали: «Ты ещё не монах».
Направили в хлебную. Выпекать приходилось до 10 пудов. Так уставал, что спал прямо тут, на лавке, не раздеваясь. Вскоре поступил к нам в хлебную послушник Фёдор из Киева. И, надо сказать, оказался горьким пьяницей и преступником. Напьётся, бывало, идёт по двору и ругается. Братия: «Смотри, твой хлебный послушник кругами ходит, отведи его в келью, пока начальство не видит». С трудом дотащил я его до кельи.
Ушёл к себе, сижу, и что-то не спокойно мне на сердце. Дай, думаю, накину крючок. Через некоторое время стучат в дверь:
– Открывай, а то дверь выбью.
Я молчу. Он колотит. Гляжу, дверь разломилась надвое и вваливается озверевший Фёдор. Схватил меня за волосы, стал бить головой об пол, пинать сапогами. Затрещали мои рёбра, лицо всё в крови. А тот насел и хрипит:
– Ну что, жизнь или смерть?
– Оставь на покаяние.
– Клянись, что не выдашь.
Тут меня заело.
– Не стану клясться, сам покайся.
– Что-о? – взревел он.
И чем-то стукнул меня по голове, кровь пошла горлом, из носа, из ушей. А тут ещё так пнул по челюсти, что сшиб с места.
Тут уж со мной, что-то сталось. Вправил я ударом кулака челюсть, схватил его, бросил, как щенка в угол и кинулся вон. Уже во дворе я потерял сознание и упал.
До утра пролежал на морозе, а дело было аккурат после Рождества. Снесли меня в лазарет, две недели я был без памяти. После этого злополучный Фёдор убил одного монаха и его отправили в тюрьму. Там выяснилось, что был он беглым каторжником. Живя в Киеве под видом инока, убил одного иеромонаха и убежал в Москву. Так ещё двадцати трёх лет от роду лишился я почти всех зубов. И долго не мог после того оправиться.
Перевели меня тогда из хлебной в больницу. Человек двенадцать в ней постоянно лежало. И надумал я тогда полечиться. Стал потихоньку от каждого больного, не разбирая, по ложечке лекарства потреблять. Удивляюсь, как не отравился, ибо какой только горечи не приходилось пить.
За больными ходил, как положено, с молитвой. Лежал, помнится, в ту пору один скитский послушник. Когда стало ему плохо, попросил он посадить его на стул, и на стуле помер. Перед выносом положили его на кровать, больные тут стояли. Поражённый такой внезапной смертью, я взмолился про себя: «Господи, воскреси его, Тебе всё возможно». И к вящему страху моему он вдруг ожил и спросил:
– Скажите, сколько часов?
– А тебе сколь надо?
– Мне все часы нужны…
Побежали сообщить доктору. Но когда собрался народ, он опять почил.
В той же палате лежал маленький мальчик, весьма беспокойный, страждущий.
– Давайте, – предлагаю, – братия, по нём Псалтырь читать.
Стали мы читать, малыш стал меняться, тихий такой стал, креститься часто стал – и вскоре умер. Доложили начальству. И перевели меня опять в хлебную, а затем в трапезную.
Здоровье моё не поправлялось, стал я унывать. Пришёл раз в таком состоянии к отцу Варнаве.
– Умру, – говорю, – не дождавшись пострига. Постригите, батюшка, тайно в мантию.
– Зачем, – возражает, – тайно? Явно монахом будешь. Лечиться брось. Молись Господу. Я поручусь за тебя. Послушаешь, до ста лет доживёшь, будешь лечиться, раньше помрёшь. А всё желаемое получишь в своё время, ступай.
Продолжил я своё послушание в трапезной. И скажу вам откровенно, среди простого народа в то время рабов Божиих было больше, чем в монастырях. Однажды пришлось мне кормить одного благообразного старичка, а он и скажи: «Хорошо тебе тут, но скоро потребуют тебя к преподобному Сергию». И впрямь, в 1875 году благословили меня на новое послушание: к раке преподобного Сергия. И пробыл я тут три с половиной года. Затем был свечником у трёх мощей: Серапиона, Иоасафа и Дионисия. А в 1879 году назначили пономарём.
Многих моих сверстников уже постригли, а меня всё обходили. И то, надо сказать, было тогда время настоящего упадка подвижничества. Иные только по одёжке числились монахами: заводили любовниц, ели мясо, копили деньги. О стяжании духа Святаго Божьего, как говорил батюшка преподобный Серафим Саровский, не думали вовсе. Мне же чуть что говорили: «Жил бы, как люди, давно бы монахом был, а ты всё святошу из себя ставишь…» Я не отвечал, но внутренне скорбел. Утешался словами старца Варнавы да молитвой. И всё же иногда очень горько бывало. Немощен человек. И если бы Господь не имел обыкновения испытывать нашу веру до конца, все бы превратились в фарисеев, уповая не на Его милость, а на свои заслуги.
Проснулся – ничего не пойму. Свет дымный столп в окно тянет. Горит лампадка, слышу стук в перегородку. Захожу:
– Благословите, батюшка.
Благословил он и говорит:
– Собирайся в путь. Господь благословляет тебя к «Троице», к преподобному Сергию.
И вот я в Сергиевом Посаде. Подхожу к Лавре и с изумлением узнаю виденную во сне икону.
Поселился я, как обычно, в гостинице. Слышу, все толкуют о каком-то старце Варнаве. Я интересуюсь. Они: «Иди в Гефсиманский скит, сам увидишь». Иду. Народу, как в Оптиной и даже больше, всем старец нужен. Ну, думаю, где мне попасть. А он, человек Божий, вышел на крылечко и кричит:
– Где тут лаврский монах? Поди сюда скорей!
Никто не откликается. Я сам озираюсь: и впрямь, никого в подряснике нет. А батюшка спустился с лесенки и всё своё:
– Дайте же пройти лаврскому монаху.
Пробрался сквозь толпу прямо ко мне, взял за руку.
– Ты, разве, не слышишь, что тебя зовут?
– Я, батюшка, не лаврский монах, я из Белых Берегов.
– Знаю, что там жил, а теперь здесь будешь.
Ввел в келью, побеседовал со мной.
– Живи у преподобного, да меня, убогого, не забывай.
– А если меня не возьмут?
– Как так? Они уже тебя возле ворот дожидаются. Иди.
Пошёл я к воротам: действительно, игумен с двумя монастырскими монахами ждут кого-то. Подошёл к ним под благословение, так, мол, и так.
И приняли, конечно.
3
С того дня началось моё сораспятие. Почти ни от кого не находил я сочувствия, ни с кем не сходился.
Начал, было, молиться, но чётки отобрали: «Ты ещё не монах».
Направили в хлебную. Выпекать приходилось до 10 пудов. Так уставал, что спал прямо тут, на лавке, не раздеваясь. Вскоре поступил к нам в хлебную послушник Фёдор из Киева. И, надо сказать, оказался горьким пьяницей и преступником. Напьётся, бывало, идёт по двору и ругается. Братия: «Смотри, твой хлебный послушник кругами ходит, отведи его в келью, пока начальство не видит». С трудом дотащил я его до кельи.
Ушёл к себе, сижу, и что-то не спокойно мне на сердце. Дай, думаю, накину крючок. Через некоторое время стучат в дверь:
– Открывай, а то дверь выбью.
Я молчу. Он колотит. Гляжу, дверь разломилась надвое и вваливается озверевший Фёдор. Схватил меня за волосы, стал бить головой об пол, пинать сапогами. Затрещали мои рёбра, лицо всё в крови. А тот насел и хрипит:
– Ну что, жизнь или смерть?
– Оставь на покаяние.
– Клянись, что не выдашь.
Тут меня заело.
– Не стану клясться, сам покайся.
– Что-о? – взревел он.
И чем-то стукнул меня по голове, кровь пошла горлом, из носа, из ушей. А тут ещё так пнул по челюсти, что сшиб с места.
Тут уж со мной, что-то сталось. Вправил я ударом кулака челюсть, схватил его, бросил, как щенка в угол и кинулся вон. Уже во дворе я потерял сознание и упал.
До утра пролежал на морозе, а дело было аккурат после Рождества. Снесли меня в лазарет, две недели я был без памяти. После этого злополучный Фёдор убил одного монаха и его отправили в тюрьму. Там выяснилось, что был он беглым каторжником. Живя в Киеве под видом инока, убил одного иеромонаха и убежал в Москву. Так ещё двадцати трёх лет от роду лишился я почти всех зубов. И долго не мог после того оправиться.
Перевели меня тогда из хлебной в больницу. Человек двенадцать в ней постоянно лежало. И надумал я тогда полечиться. Стал потихоньку от каждого больного, не разбирая, по ложечке лекарства потреблять. Удивляюсь, как не отравился, ибо какой только горечи не приходилось пить.
За больными ходил, как положено, с молитвой. Лежал, помнится, в ту пору один скитский послушник. Когда стало ему плохо, попросил он посадить его на стул, и на стуле помер. Перед выносом положили его на кровать, больные тут стояли. Поражённый такой внезапной смертью, я взмолился про себя: «Господи, воскреси его, Тебе всё возможно». И к вящему страху моему он вдруг ожил и спросил:
– Скажите, сколько часов?
– А тебе сколь надо?
– Мне все часы нужны…
Побежали сообщить доктору. Но когда собрался народ, он опять почил.
В той же палате лежал маленький мальчик, весьма беспокойный, страждущий.
– Давайте, – предлагаю, – братия, по нём Псалтырь читать.
Стали мы читать, малыш стал меняться, тихий такой стал, креститься часто стал – и вскоре умер. Доложили начальству. И перевели меня опять в хлебную, а затем в трапезную.
Здоровье моё не поправлялось, стал я унывать. Пришёл раз в таком состоянии к отцу Варнаве.
– Умру, – говорю, – не дождавшись пострига. Постригите, батюшка, тайно в мантию.
– Зачем, – возражает, – тайно? Явно монахом будешь. Лечиться брось. Молись Господу. Я поручусь за тебя. Послушаешь, до ста лет доживёшь, будешь лечиться, раньше помрёшь. А всё желаемое получишь в своё время, ступай.
Продолжил я своё послушание в трапезной. И скажу вам откровенно, среди простого народа в то время рабов Божиих было больше, чем в монастырях. Однажды пришлось мне кормить одного благообразного старичка, а он и скажи: «Хорошо тебе тут, но скоро потребуют тебя к преподобному Сергию». И впрямь, в 1875 году благословили меня на новое послушание: к раке преподобного Сергия. И пробыл я тут три с половиной года. Затем был свечником у трёх мощей: Серапиона, Иоасафа и Дионисия. А в 1879 году назначили пономарём.
Многих моих сверстников уже постригли, а меня всё обходили. И то, надо сказать, было тогда время настоящего упадка подвижничества. Иные только по одёжке числились монахами: заводили любовниц, ели мясо, копили деньги. О стяжании духа Святаго Божьего, как говорил батюшка преподобный Серафим Саровский, не думали вовсе. Мне же чуть что говорили: «Жил бы, как люди, давно бы монахом был, а ты всё святошу из себя ставишь…» Я не отвечал, но внутренне скорбел. Утешался словами старца Варнавы да молитвой. И всё же иногда очень горько бывало. Немощен человек. И если бы Господь не имел обыкновения испытывать нашу веру до конца, все бы превратились в фарисеев, уповая не на Его милость, а на свои заслуги.