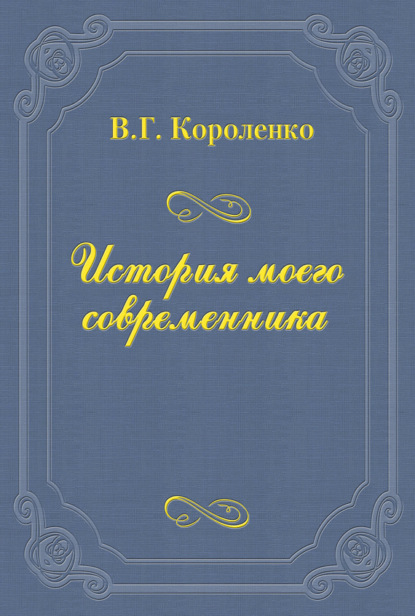По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Весть об этом происшествии мгновенно облетела весь город.
В тот день я за что-то был оставлен после уроков и возвращался позже обыкновенного домой с кучей расползавшихся книг в руках. Улица была пуста, только впереди виднелось несколько синих мундиров, которых полицейский выпроваживал в конец, подальше от дома исправника. Кое – где мелькала какая-нибудь одинокая фигура, стрелой пересекавшая улицу и исчезавшая… Только когда я поравнялся с казначейством и повернул за угол, навстречу мне попалась кучка гимназистов, человек десять. Среди них я заметил Перетяткевичей и Домарацких, представителей двух родственных польских семей. Это был по большей части народ великовозрастный, состоятельный и державшийся относительно гимназического режима довольно независимо. Один еще недавно был вынужден оставить гимназию. Увидев меня, они заступили мне дорогу и закидали вопросами:
– Вас пропустили? Ну, что? Правда, что с Савицким припадок? Вы видели его сестру?..
– Что такое? – ответил я с недоумением, глядя на их возбужденные лица.
– Хороший товарищ! – насмешливо сказал старший Перетяткевич. – Да где же вы были это время?
– В карцере.
– А! Это другое дело. Значит, вы не знаете, что Безак схватил Савицкого за ухо и швырнул в каталажку… Идите домой и зовите товарищей на улицу.
Рассказ прошел по мне электрической искрой. В памяти, как живая, стала простодушная фигура Савицкого в фуражке с большим козырем и с наивными глазами. Это воспоминание вызвало острое чувство жалости и еще что-то темное, смутное, спутанное и грозное. Товарищ… не в карцере, а в каталажке, больной, без помощи, одинокий… И посажен не инспектором… Другая сила, огромная и стихийная, будила теперь чувство товарищества, и сердце невольно замирало от этого вызова. Что делать?
Я побежал домой, бросил книги, не нашел братьев и опять опрометью кинулся на улицу. Перетяткевичей и Домарацких уже не было. Они, вероятно, ушли куда-нибудь совещаться. Но по площади бродили группы учеников, ошеломленных происшествием и не знавших, что делать. Полицейские не успевали их прогонять даже с Гимназической улицы… Разговаривали, расспрашивали, передавали в разных вариантах, что случилось. Сходились, расходились, не находя места. Несколько человек, особенно предприимчивых, пробрались к окну каталажки через забор соседнего двора и видели, что Савицкий лежит на лавке. Будочник покрыл его лицо темною тряпкой…
Трудно сказать, что могло бы из этого выйти, если бы Перетяткевичи успели выработать и предложить какой-нибудь определенный план: идти толпой к генерал – губернатору, пустить камнями в окна исправницкого дома… Может быть, и ничего бы не случилось, и мы разбрелись бы по домам, унося в молодых душах ядовитое сознание бессилия и ненависти. И только, быть может, ночью забренчали бы стекла в генерал – губернаторской комнате, давая повод к репрессиям против крамольной гимназии…
Но раньше, чем это успело определиться, произошло другое.
Из дома на той же улице, одетый по форме, важный, прямой, в треуголке и при шпаге вышел директор Долгоногов. Он был недавно назначен, и мы его знали мало. Да, правду сказать, и впоследствии не узнали ближе. Он был великоросс, и потому в нем не было обрусительной злобы, справедлив – порой признавал неправым начальство в столкновениях с учениками – и строг. Но для нас это был все же чиновник педагогического ведомства, точный, добросовестный формалист, требовательный к себе, к учителям и к ученикам… Как оказалось, кроме того – у него было сознание своего достоинства и достоинства того дела, которому он служит. Так представляется мне этот человек теперь, когда я вспоминаю его в этот знаменательный день.
В эту минуту во всей его фигуре было что-то твердое и сурово спокойное. Он, очевидно, знал, что ему делать, и шел среди смятенных кучек, гимназистов, как большой корабль среди маленьких лодок. Отвечая на поклоны, он говорил только:
– Расходитесь, дети, расходитесь.
И было в нем что-то, заставлявшее учеников чувствовать, что они действительно дети, и полагаться на этого спокойного, серьезного человека…
Так он вошел в дом, где остановился генерал – губернатор. Минуты через три он вышел оттуда в сопровождении помощника исправника, который почтительно забегал перед ним сбоку, держа в руке свою фуражку, и оба пошли к каталажке. Помощник исправника открыл дверь, и директор вошел к ученику. Вслед за тем прибежал гимназический врач в сопровождении Дитяткевича, и другой надзиратель провел заплаканную и испуганную сестру Савицкого…
Было что-то ободряющее и торжественное в этом занятии полицейского двора людьми в мундирах министерства просвещения, и даже колченогий Дидонус, суетливо вбегавший и выбегавший из полиции, казался в это время своим, близким и хорошим. А когда другой надзиратель, большой рыжий Бутович, человек очень добродушный, но всегда несколько «в подпитии», вышел к воротам и сказал:
– Директор просит всех гимназистов разойтись по домам! – то через минуту около полицейского двора и исправницкого дома не осталось ни одного синего мундира…
В чиновничьих кругах передавали подробности сцены между генерал – губернатором и директором. Когда директор вошел, Безак, весь раскаленный, как пушка, из которой долго палили по неприятелю, накинулся на него:
– Что тут у вас! Беспорядки! Непочтительность! Полячки не снимают перед начальством шапок!
– Ваше превосходительство, – сказал Долгоногов холодно и твердо, – в другое время я готов выслушать все, что вам будет угодно сказать. Теперь прежде всего я требую немедленного освобождения моего ученика, незаконно арестованного при полиции… О происшествии я уже послал телеграмму моему начальству…
Безак растерянно посмотрел на директора и… приказал тотчас же отпустить Савицкого.
В один из карточных вечеров у отца об этом случае заговорили чиновники. Все сочувствовали и немного удивлялись Долгоногову. Одни думали, что ему не сдобровать, другие догадывались, что, должно быть, у этого Долгоногова есть «сильная рука» в Петербурге. Отец с обычной спокойной категоричностью сказал:
– А, толкуйте! Просто – действовал человек на законном основании, и баста!
– Но ведь – Безак!.. Назначен самим царем!
– Все мы назначены царем, – возразил отец[86 - Все мы назначены царем, – возразил отец. – В тексте «Русского богатства» (1908, № 3) это место имело следующее продолжение: «Никаких дурных последствий для Долгоногова эта история, кажется, не имела. Некоторое время, года еще, помнится, полтора, он оставался у нас, а затем был переведен, если не ошибаюсь, в Москву, то есть получил значительное повышение. Времена тогда были глухие, но „законные основания“ имели тогда значение гораздо большее, чем впоследствии. Министерство внутренних дел не успело еще поглотить все остальные ведомства, как в наши нынешние времена…»].
Достоевский в одном из своих «Дневников писателя» рассказывал о впечатлении, какое в юности произвела на него встреча на почтовом тракте с фельдъегерем: фельдъегерь стоял в повозке и, не переставая, колотил ямщика по шее. Ямщик неистово хлестал кнутом лошадей, и тройка с смертельным ужасом в глазах мчалась по прямой дороге мимо полосатых столбов. Эта картина показалась юноше символом всей самодержавной России и, быть может, содействовала тому, что Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни… [87 - …Достоевскому пришлось стоять у эшафота в ожидании казни. – Федор Михайлович Достоевский (1821–1881) – в молодости был участником революционного кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. В числе других членов кружка 23 апреля 1849 года был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, затем судим вместе с другими петрашевцами военно-судной комиссией и приговорен к смертной казни. Осужденные были 22 декабря 1849 года привезены из Петропавловской крепости на Семеновский плац, поставлены к столбам, на них надели саваны, прочли им смертный приговор, солдатам приказано было взять на прицел – и только в последнюю минуту им объявили изменение приговора. Достоевский получил взамен казни четыре года каторги, которую отбывал в омском остроге (описанном им в «Записках из Мертвого дома»), а затем был переведен в Семипалатинск рядовым.] В моей памяти таким символическим пятном осталась фигура генерал – губернатора Безака. Цельное представление о «власти – стихии» дало сразу огромную трещину. На одной стороне оказался властный сатрап, хватающий за ухо испуганного мальчишку, на другой – закон, отделенный от власти, но вооружающий скромного директора на борьбу и победу. Много ли русская школа знает таких выступлений за последние десятилетия, ознаменованные вторжением в нее «административного порядка» и бурными волнениями молодежи? Кто вместо нее проявлял гражданское мужество в защите законности, человечности и права?
Часть четвертая
В деревне
XXIII
Гарнолужское панство
Деревня для школьника – горожанина – это каникулы.
Когда мы переезжали из Житомира в Ровно, то оказалось, что Гарный Луг[88 - Гарный Луг – в действительности – Харалуг Ровенского уезда Межерической волости.], деревня дяди – капитана, находится всего в пятидесяти или шестидесяти верстах от города. По семейному соглашению, сын капитана, Саня[89 - …сын капитана, Саня. – Александр Казимирович Туцевич (род. в 1856 г.). Учился в ровенской гимназии, но курса не окончил. В 1877 году поступил наборщиком в одну из петербургских типографий. В 1879 году жил в квартире Короленко и 4 марта того же года был арестован вместе со всеми мужчинами семьи.], жил у нас в Ровно весь учебный год, а мы всей семьей приезжали к ним на каникулы. Саня был мальчик длинный, худощавый, с деревенскими приемами, которые делали его жертвой насмешек, с детски чистым сердцем и головой, слабоватой на учение. Мы все любили его, но порой довольно жестоко шутили над его деревенской простотой, которую он сохранил на всю жизнь, и сохранил еще что-то особенное: как будто противоречия жизни отпечатлелись бессознательно на слишком чуткой совести.
Деревня была своеобразная, одна из тех, в которых крепостное право еще до формального упразднения уже дошло до явной нелепости. Покойный Данилевский в беглом эскизе набросал картинку деревни, носившей характерное название Стопановки[90 - …носившей характерное название Стопановки. – Здесь имеется в виду очерк писателя Григория Петровича Данилевского (1829–1890) «Село Сорокопановка» (Из воспоминания депутата***) (1869).]. Так окрестили ее потому, что в ней было около сотни «помещиков», почти столько же, сколько крепостных. Таких деревень к концу крепостного права было, надо думать, немало. Поместное сословие множилось, разорялось, теряло черты барства божией милостью, выделяя все более и более паразитов, приживальщиков, владельцев одной или двух душ…
Гарный Луг представлял настоящее гнездо такого выродившегося «панства»: уже ко времени эмансипации в нем было около шестидесяти крестьянских дворов и что-то около двух десятков шляхтичей – душевладельцев. Капитану одному принадлежало около трети.
Как возникла эта странная «социальная структура», я не знаю. Всего вероятнее, что Гарный Луг был когда-то так называемым «застенком»[91 - «Застенком» называлась в Польше (в Полесье, на Волыни) немеренная земля, прилегавшая к полям, сенокосам и другим угодьям села и отделенная от них какими-нибудь естественными границами. Расчистка и обработка застенков предоставлялась каждому жителю села на правах заимки. Мелкая шляхта, заселявшая застенки и сама их обрабатывавшая, называлась «застойной шляхтой».], а его «панство» представляло «застенную шляхту», ярко описанную Мицкевичем в «Пане Тадеуше»[92 - Мицкевич Адам (1798–1855) – великий польский поэт. Его поэма «Пан Тадеуш» была написана в 1832–1834 годах.], тяготевшую к какому-нибудь патрону. В черте капитанской усадьбы, на небольшом холмике над прудиком, высилось старинное темное здание с остроконечной крышей загадочного вида и назначения. Кругом, точно почетная стража, стояли семь пирамидальных тополей с опаленными вершинами, и издали всю эту группу можно было принять за старинную сторожевую башню. Но в действительности это был только «магазин», то есть кладовая. В нижнем ее помещении стояли бочки с квасом, огурцами, капустой. В среднем ссыпали в засеки хлеб, а в мезонине была жилая комната с балкончиком. На балкон нам воспрещалось выходить под опасением провала, и порой все это почтенное здание кряхтело и как будто расседалось. Но капитан этого не признавал. Он очень гордился «магазином», который был виден далеко со своими тополями, занимая центральное господствующее положение… Кругом, точно под его покровительством, ютились соломенные крыши, сады, левады, колодцы с журавлями. Кое – где в одиночку, точно отбившиеся от центра, торчали отдельные тополи, обозначая «панские усадьбы». Лучшая из них – дом капитана, была тоже с соломенной крышей. Остальные почти уже ничем не отличались от мужицких.
По преданию – «магазин» был единственным остатком богатой панской усадьбы, служившей центром для гарно – лужской шляхты. Капитан дорожил им, как эмблемой. Самый крупный из «помещиков» Гарного Луга, хотя человек сравнительно новый, – он вместе с этой древней постройкой как бы наследовал первенствующее положение…
Прежний центр исчез навеки, а с ним исчез и смысл существования местной шляхты…
Капитан, как уже сказано, был отличный рассказчик и по временам, в длинные зимние вечера, любил изображать эпизоды гарнолужского прошлого с его удивительными нравами. Старая, отжившая шляхетская «воля», лишенная смысла и значения, выражалась в карикатурных формах. В деревне было две партии, продолжавшие из-за чего-то воевать, нападать друг на друга и тягаться в судах. Центром этой борьбы являлось право пропинации, то есть сдача в аренду шинка. Каждая партия считала это право за собой, и каждая выдвигала своего кандидата, поддерживая его вооруженной рукой. Шинок превращался порой в настоящую крепость. Паны Лохмановичи ставили караулы, чтобы защитить водворенного в шинке Янкеля, Банькевичи чинили нападения, чтобы водворить на его место Мошка. Темными ночами порой закипал бой. Паны во главе челяди лезли к корчме на приступ: трещали головы, лаяли собаки, вопили женщины и дети…
Когда водка вся выходила и приходилось покупать в городе новый запас, – наступали самые драматические моменты этой гарнолужской Илиады. Янкеля с бочкой сопровождал вооруженный отряд. Вперед проезжали благополучно. Но на обратном пути, около мостика в овраге, устраивалась засада. В одной из таких экспедиций капитан, кажется, участвовал лично и с большим юмором рассказывал, как во время жаркого боя мужики вышибли у бочки дно. Обе стороны, забыв вражду, кинулись черпать водку шапками, ковшами, даже сапогами, у кого они были… Утро застало витязей вповалку на лесной мураве, друзей и врагов рядом.
Все это вело, конечно, к тяжбам, с наездами приказных, которые одни извлекали пользу из этих рыцарских столкновений…
В то время, когда мне пришлось познакомиться с Гарным Лугом, героические нравы отошли в область легенд. Панство еще до реформы окончательно опустилось и обнищало… Рассказывали, между прочим, что вследствие каких-то замысловатых семейно – наследственных комбинаций два шляхтича, женатые на родных сестрах, владели одной только крепостной хатой и то спорной. Хуже всего при этом доставалось, конечно, злополучному предмету спора. Пока о «душе» Микиты в суде шла тяжба, оба пана отдавали ему приказания, и оба требовали покорности. Несчастный мужик вечно находился под воздействием двух сил, тянувших в разные стороны. Не удивительно, что равнодействующая повлекла его в направлении, одинаково удаленном от обоих: он облюбовал себе место в шинке Янкеля… Положение между двумя воюющими и одной нейтральной державой развило в Миките дипломатические способности: порой он заключал союз с одним паном и вместе с ним тузил другого. Потом переходил на сторону противника и для восстановления политического равновесия добросовестно колотил недавнего союзника. Суда он не боялся, так как в обоих случаях исполнял панское приказание…
Бывало, конечно, и так, что оба пана приходили к сознанию своего, как теперь принято говорить, классового интереса и заключали временный союз против Микиты. Тогда Миките приходилось плохо, если только Янкель не успевал своевременно обеспечить ему убежище.
Вообще жизнь злополучного спорного мужика сложилась совсем не по – людски… Иметь одного, но «настоящего» пана было бы для него счастьем. Поэтому он не раз приходил к капитану, прося купить его в нераздельное владение и обещая работать за троих. Работник он был хороший, и Янкель не имел оснований на него жаловаться. Но купить его было нельзя, так как не было известно, кто же собственно мог его продать. А разделить покупную сумму пополам «стороны» не соглашались: они лучше согласились бы разрубить пополам самого Микиту.
– Хиба ж я таки ничего не стою? – спрашивал бедняга в отчаянии.
– Я тебя, бедный человек, не хулю, – отвечал капитан. – Мужик ты стоющий, но с тобой приходится наживать тяжбу… Иди себе с богом…
Микита шел в корчму, напивался и становился страшен для обоих владельцев…
Самым старым из этой шляхты был пан Погорельский, живая летопись деревни, помнивший времена самостоятельной Польши. Он служил «панцырным товарищем» в хоругви какого-то пана Холевинского или Голембиовского и участвовал в конфедерации[93 - Конфедерациями в Польше назывались союзы шляхты для защиты ее прав и привилегий.]. Ему было что-то около сотни лет.
Мне приходит в голову странная мысль. Чуть не каждый год мы читаем в газетах, что в том или другом месте умер старик или старуха ста, ста десяти лет, а лет восемь или десять назад сибирские газеты сообщали о смерти поселенца 136 лет… Когда мы смотрим на горные склоны, покрытые лесом, то даже средняя гора кажется огромной по сравнению с деревьями: такая бесчисленная зеленая рать толпится по ее уступам. Но если бы выбрать столетние деревья и смерить гору по Их росту, то оказалось бы, что десяток – другой таких деревьев уже измеряет всю высоту… Бесчисленные поколения людей, как мелколесье на горных склонах, уместились на расстоянии двадцати столетий, протекших с той ночи, когда на небе сияла хвостатая звезда и в вифлеемской пещере нашла приют семья плотника Иосифа, пришедшего из Назарета для переписи по указу Августа.
С тех пор как пала Иудея, Римская империя разделилась и потонула в бесчисленных ордах варваров, основались новые царства, водворилась готическая тьма средневековья с гимнами небу и стонами еретиков; опять засверкала из-под развалин античная жизнь, прошумела реформация; целые поколения косила Тридцатилетняя война, ярким костром вспыхнула Великая революция и разлилась по Европе пламенем наполеоновских войн… И подумать только, что все это улеглось на расстоянии менее чем двадцати максимальных человеческих жизней. И все это время не было недостатка в 125–летних стариках, которые могли бы, «как очевидцы», передавать друг другу летопись веков. Таких «очевидцев» до наших дней сменилось бы только… двадцать!..