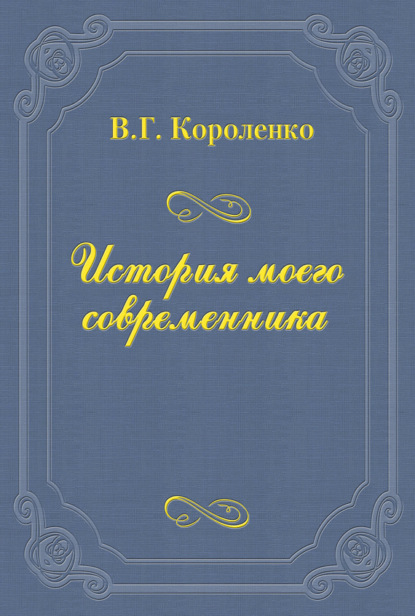По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История моего современника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Одного из таких старых дубов человеческого леса я видел в Гарном Луге в лице Погорельского. Он жил сознательною жизнью в семидесятых и восьмидесятых годах XVIII века. Если бы я сам тогда был умнее и любопытнее, то мог бы теперь людям двадцатого века рассказать со слов очевидца события времен упадка Польши за полтора столетия назад.
Но эти вопросы тогда интересовали меня мало.
Проходя за чем-то одним из закоулков Гарного Луга, я увидел за тыном, в огороде, высокую, прямую фигуру с обнаженной лысой головой и с белыми, как молоко, седыми буклями у висков. Эта голова странно напоминала головку высохшего мака, около которой сохранились бы два белых засохших лепестка. Проходя мимо, я поклонился.
Старик посмотрел на меня выцветшими, но еще живыми глазами и сказал:
– А чей ты, хлопче? Я что-то таких не видал.
Я ответил, что я племянник капитана, и мы разговорились. Он стоял за тыном, высокий, худой, весь из одних костей и сухожилий. На нем была черная «чамарка», вытертая и в пятнах. Застегивалась она рядом мелких пуговиц, но половины их не было, и из-под чамарки виднелось голое тело: у бедняги была одна рубаха, и, когда какая-нибудь добрая душа брала ее в стирку, старик обходился без белья.
– Да… Капитан… Знаю… Он купил двадцать душ у такого-то… Homo novus[18 - Новый человек (лат.). – Ред.]… Прежних уже нет. Все пошло прахом. Потому что, видишь ли… было, например, два пана: пан Банькевич, Иосиф, и пан Лохманович, Якуб. У пана Банькевича было три сына и у пана Лохмановича, знаешь, тоже три сына. Это уже выходит шесть. А еще дочери… За одной Иосиф Банькевич дал пятнадцать дворов на вывод, до Подоля… А у тех опять пошли дети… У Банькевича: Стах, Франек, Фортунат, Юзеф…
Он сыпал генеалогическими разветвлениями, которые я, конечно, передаю здесь очень вольно, и потом заговорил о старых временах.
– Гей, гей!.. Скажу тебе, хлопче, правду: были люди – во времена «Речи Посполитой»…[94 - «Речь Посполитая» – название установившегося в Польше со второй половины XVI века государственного строя – феодально-крепостнической, шляхетской выборной монархии. После третьего раздела Польши (1795) существование Речи Посполитой прекратилось.] Когда, например, гусарский регимент[19 - Полк (пол.). – Ред.] шел в атаку, то, понимаешь, – как буря: потому что за плечами имели крылья… Кони летят, а в крыльях ветер, говорю тебе, как ураган в сосновом бору… Иисус, Мария, святой Иосиф…
Лицо старого панцырного товарища покраснело до лысой макушки, белые букли по сторонам поднялись, и в выцветших зрачках явилась колючая искорка.
Но вдруг он опять весь погас.
– А теперь… Га! Теперь – все покатилось кверху тормашками на белом свете. Недавно еще… лет тридцать назад, вот в этом самом Гарном Луге была еще настоящая шляхта… Хлопов держали в страхе… Чуть что… А! сохрани боже! Били, секли, мордовали!.. Правду тебе скажу, – даже бывало жалко… потому что не по – христиански… А теперь…
Он вытянул через тын свою сухую шею и заговорил мне в ухо тихим топотом:
– Теперь мужик, клянусь богом и пресвятой девой, бьет родовитого шляхтича по морде… И что же?.. Га! Ничего… Да что тут и говорить: последние времена!
Было знойно и тихо. В огороде качались желтые подсолнухи. К ним, жужжа, липли пчелы. На кольях старого тына чернели опрокинутые горшки, жесткие листья кукурузы шелестели брюзгливо и сухо. Старые глаза озирались с наивным удивлением: что это тут кругом? Куда девались панцырные товарищи, пан Холевинский, его хоругвь, прежняя шляхта?..
В этом старце, давно пережившем свое время, было что-то детски тихое, трогательно – печальное. Нельзя сказать того же о других представителях nobilitatis harnolusiensis[95 - …nobilitatis harnolusiensis – (иронически) гарнолужского дворянства.], хотя и среди них попадались фигуры в своем роде довольно яркие.
Однажды у капитана случилась пропажа: кто-то ночью взломал окно в нижнем помещении «магазина» и утащил оттуда кадку масла и кадку меду. Первым сообщил о пропаже пан Лохманович.
Это был человек с очень живописной наружностью: широкоплечий, с тонкой талией, с прямым польским носом и окладистой бородой, красиво расстилавшейся по всей груди, – он представлял, вероятно, точную копию какого-нибудь воинственного предка, водившего в бой отряды… Теперь это была форма без содержания. Из всех качеств старопольского воинства в нем сохранилась только величавая осанка, богатырский аппетит и благородное влечение к тонким блюдам. «Пан Лохманович, – говорил про него капитан, – знает, чем пахнет дым из каждой печной трубы в Гарном Луге». К мужичью он питал нескрываемое презрение.
– Их дело, – говорил он уверенно, когда на пропажу собрались соседи. – Шляхтич на это не пойдет. Имею немного, что имею – мое. А у хамов ни стыда, ни совести, ни страха божия…
Мужики угрюмо молчали и осматривали внимательно признаки взлома. Вдруг один из них разыскал следы под окном. Следы были сапожные, и правый давал ясный отпечаток сильно сбитого каблука… Мужики ходят в «постолах». Сапоги – обувь панская. И они недвусмысленно косились на правый каблук гордого пана… В этой щекотливой стадии расследования пан Лохманович незаметно стушевался…
Поднялся шум. «Разнузданное хлопство», не стесняясь, кричало, что капитанский магазин обокрали паны, и с этим известием хлынуло на улицу. Достоинство гарнолужского панства жестоко страдало. Шляхта собралась у старика Погорельского, человека сведущего в вопросах чести, и на общем совете было решено отправить к Лохмановичу депутацию. Бывший панцырный товарищ стал во главе ее и обратился к «брату – шляхтичу» с речью… Сам уважаемый собрат и благодетель видит, что обстоятельства исключительного рода: хлопство кидает злую «калюмнию» на все благородное сословие Гарного Луга… Единственно для того, чтобы вогнать клевету обратно в хлопские пасти, шляхетство просит своего уважаемого собрата дозволить осмотр кладовых.
Пан Лохманович, величавый, как всегда, спокойно согласился.
– Pro forma {Ради формы (лат.).}, благодетель, prо forma, – говорил обрадованный Погорельский. – Только чтобы зажать рты низкой черни.
Обыск подходил к концу без всякого результата.
– Имею мало… что имею – мое! – повторял Лохманович. Собирались уже уходить, когда один из мужиков, допущенных в качестве депутатов, разгреб в углу погреба кучу мякины: под ней оказались рядом обе кадушки…
Подхватив их тотчас же на плечи, мужики торжественно понесли находку к капитану, с криком торжества, с песнями, с «гвалтом и тумультом»…
Это был жестокий удар всему панству. Пан Погорельский плакал, как бобр, по выражению капитана, оплакивая порчу нравов, – periculum in mores nobilitatis harno-lusiensis[20 - Падение нравов гарнолужского дворянства (лат,). – Ред.]. Только сам Лохманович отнесся к неприятной случайности вполне философски. Дня через два, спокойный и величавый, как всегда, он явился к капитану.
– Не лучше ли, уважаемый собрат и сосед, бросить это грязное дело, – сказал он. – Ну, случилось там… с кем не бывает… Стоит ли мешать судейских крючков в соседские дела?
Капитан был человек вспыльчивый, но очень добродушный и умевший брать многое в жизни со стороны юмора. Кроме того, это было, кажется, незадолго до освобождения крестьян. Чувствовалась потребность единения… Капитан не только не начал дела, простив «маленькую случайность», но впоследствии ни одно семейное событие в его доме, когда из трубы неслись разные вкусные запахи, не обходилось без присутствия живописной фигуры Лохмановича…
Но едва ли не самыми замечательными представителями этого измельчавшего шляхетства были два брата Банькевича. Один – «заведомый ябедник» (был в старину такой официальный термин), другой – увы! – конокрад.
Наружность у Антония (так звали ябедника) была необыкновенно сладостная. Круглая фигура, большой живот, маленькая лысая голова, сизый нос и добродушные глаза, светившиеся любовью к ближним. Когда он сидел в кресле, сложив пухлые руки на животе, вращая большими пальцами, и с тихой улыбкой глядел на собеседника, – его можно было бы принять за олицетворение спокойной совести. В действительности это был опасный хищник.
Ябедник, обладавший острым пером, знанием законов и судопроизводства, внушал среднему обывателю суеверный ужас. Это был злой волшебник, знающий магическое «слово», которое отдает в его руки чужую судьбу. Усадьба Антона Банькевича представляла нечто вроде заколдованного круга.
Если курица какого-нибудь пана Кунцевича попадала в огород Антония, она, во – первых, исчезала, а во – вторых, начинался иск о потраве. Если, наоборот, свинья Банькевича забиралась в соседний огород, – это было еще хуже. Как бы почтительно ни выпроводил ее бедный Кунцевич, – все-таки оказывалось, что у нее перебита нога, проколот бок или каким иным способом она потерпела урон в своем здоровье, что влекло опять уголовные и гражданские иски. Соседи дрожали и откупались.
– А! Прошу вас, мой благодатель, – говаривал с видом беспомощного отчаяния один из этих несчастных. – Ну как тут быть, когда человек не знает, какой статьей закона следует гнать из огорода гуся, а какой поросенка. А он загоняет себе чужих и ничего не боится.
Соседям казалось, что куры, индюки и телята Банькевича ограждены особым покровительством закона, а ябедник, стоя на крылечке, целые дни озирал свои владения, высматривая источники дохода…
Слава Банькевича распространилась далеко за пределы Гарного Луга, и к нему, как к профессору этого дела, приезжали за советом все окрестные сутяги.
Появление в Гарном Луге капитана и независимое отношение нового владельца к опасному ябеднику грозили пошатнуть прочно установившийся авторитет. Поэтому Банькевич, наружно сохраняя наилучшие отношения к «уважаемому соседу и благодетелю», высматривал удобный случай для нападения… И вот на второй, кажется, год пребывания капитана в Гарном Луге Банькевич отправился на его ниву со своими людьми и сжал его хлеб.
Убыток был не очень большой, и запуганные обыватели советовали капитану плюнуть, не связываясь с опасным человеком. Но капитан был не из уступчивых. Он принял вызов и начал борьбу, о которой впоследствии рассказывал охотнее, чем о делах с неприятелем. Когда ему донесли о том, что его хлеб жнут работники Банькевича, хитрый капитан не показал и виду, что это его интересует… Жнецы связали хлеб в снопы, тотчас же убрали их, и на закате торжествующий ябедник шел впереди возов, нагруженных чужими снопами.
Дорога пролегала задами мимо капитанской усадьбы. Едва возы, скрипя, поравнялись с широкими воротами клуни, эти ворота внезапно открылись, капитан с людьми выскочил из засады и, похватав лошадей и волов, – завернул возы в клуню. Их вводили в одни ворота, быстро выгружали и выпускали порожнем в другие. Атака произведена была так ошеломляюще быстро, что сторона Банькевича не оказала никакого сопротивления. Когда все было кончено, капитан, сняв фуражку, любезно благодарил доброго соседа за его помощь и предлагал откушать после трудов хлеба – соли.
Удар ябеднику был нанесен на глазах у всего Гарного Луга… Все понимали, что дело завязалось не на шутку: Банькевич отправился на «отпуст» к чудотворной иконе, что делал всегда в особенно серьезных случаях.
Когда он вернулся, из его окна всю ночь светился огонь на кусты жасмина, на бурьян и подсолнухи, а в избе виднелась фигура ябедника, то падавшего на колени перед иконой, когда иссякало вдохновение, то усиленно строчившего… На деревне пели уже петухи, когда окно Банькевича стукнуло и в нем появилось красное лицо со следами неостывшего еще вдохновения. С выражением торжества он поднял руку с листом бумаги и помахал им в ту сторону, где высился темной крышей с флагштоком «магазин» капитана, окруженный тополями.
Все эти подробности один из соседей тотчас же конфиденциально сообщил капитану.
Впоследствии капитан ознакомил нас с драматическими перипетиями этой борьбы. Надев роговые очки, подняв бумагу высоко кверху, он с чувством перечитывал ябеды Банькевича и свои ответы…
Писания Банькевича производили впечатление своеобразных, но несомненно талантливых произведений. Стиль был старинный русско – польский, кудреватый, запутанный, усеянный такими неожиданными оборотами, что порой чтение капитана прерывалось общим хохотом. Только сам чтец оставался серьезен. Было видно, что он отдавал дань искусству противника. Тут было, действительно, и знание законов, и выразительность, и своеобразный пафос, как будто рассчитанный на чувствительность судей. Себя автор называл не иначе, как «сиротой – дворянином», противника – «именующимся капитаном» (мой дядя был штабс – капитаном в отставке), имение его называлось почему-то «незаконно приобретенным», а рабочие – «безбожными»… «И как будучи те возы на дороге, пролегающей мимо незаконно приобретенного им, самозванцем Курцевичем, двора, то оный самозванный капитан со своей безбожною и законопротивною бандою, выскочив из засады с великим шумом, криком и тумультом, яко настоящий тать, разбойник и публичный грабитель, похватав за оброти собственных его сироты – дворянина Банькевича лошадей, а волов за ярма, – сопроводили оных в его, Курцевича, клуню и с великим поспехом покидали в скирды. О каковом публичном рабунке и явном разбое он, нижайший сирота – дворянин Антоний Фортунатов Банькевич, омочая сию бумагу горькими сиротскими слезами, просит произвести строжайшее следствие и дать суд по форме». В заключение приводились статьи, угрожавшие капитану чуть не ссылкой в каторжные работы, и список убытков, грозивший разорением.
На этих произведениях Банькевича я впервые знакомился с особенностями ябеднического стиля, но, конечно, мое изложение дает лишь отдаленное понятие об его красотах. Особенно поражало обилие патетических мест. Старый ябедник, очевидно, не мог серьезно рассчитывать на судейскую чувствительность; это была бескорыстная дань эстетике, своего рода полет чистого творчества.
Пущенная по рукам жалоба читалась и перечитывалась. Газет в деревне не было. Книги почти отсутствовали, и с красотами писанного слова деревенские обыватели знакомились почти исключительно по таким произведениям. Все признавали, что ябеда написана пером острым и красноречивым, и капитану придется «разгрызть твердый орех»… Банькевич упивался литературным успехом.
Капитан вооружился в свою очередь и вскоре тоже прочитал знакомым «в такой-то уездный суд корпуса лесничих отставного штабс – капитана Курцевича отзыв. А о чем оный отзыв», – тому следовали пункты.
Прежде всего он, проситель, не самозванец, а истинный государя своего штабс – капитан, на что имеет законные доказательства. Ибо участвовал в делах с мятежниками, причем понес ядерную контузию, имеет ордена. Выйдя в отставку, определился на службу по корпусу лесничих, был производим в чины, по прошению уволен в отставку в чине штабс – капитана с мундиром и пенсией. Из чего явствует, что именующий себя сиротой – дворянином Банькевич повинен не токмо в клеветническом оболгании его, Курцевича, но сверх того и в дерзостном пренебрежении высочайшего имени, на указах обозначенного.
Пафосу и чувствительности Банькевича капитан противопоставил язвительность и иронию. Он спрашивал: как сирота – дворянин очутился со снопами у его, Курцевича, клуни, когда всему свету известно, что собственное его, Банькевича, владение находится в другой стороне. «Слыхано и видано, – прибавлял капитан язвительно, – что сироты ходят с торбами, вымаливая куски хлеба у доброхотных дателей, но чтобы сироты приезжали на чужое поле не с убогою горбиною, а с подводами, конно и людно, тому непохвальный пример являет собою лишь оный Антон Фортунатов Банькевич, что в благоустроенном государстве терпимо быть не может». А посему, за силою законов, капитан в свою очередь требовал для Банькевича разных немилостивых наказаний.
Отзыв он повез в город лично. Прислуга вытащила из сундуков и принялась выколачивать военный мундир с эполетами, брюки с выпушками, сапоги со шпорами и каску с султаном. Развешанное на тыну, все это производило сильное впечатление, и в глазах смиренной публики шансы капитана сильно поднялись.