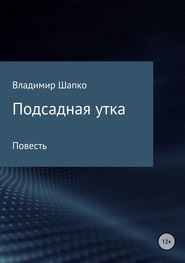По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Синдром веселья Плуготаренко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А! – бесшабашно махал рукой кутила. – Производственная травма!
Юрий смеялся, а Вера Николаевна ничего, кроме досады, не испытывала – сын никак не воспринимал соседку. Как, впрочем, и та его.
Известно, что даже собаки, прежде чем без сожаления разбежаться, должны походить вокруг друг дружки. Обнюхаться хотя бы. Эти двое – нет: никогда не «ходили» и не «обнюхивались». Глаза обоим всегда застилал маленький Колька – забавный щеночек.
4
В горсовет обратно Вера Николаевна шла хмурая, недовольная. И сыном, и собой. Солнце стояло в зените беспощадное, жаркое. Вокруг тоже всё раздражало. Сначала какой-то старик подмигнул ей точно подружке. Прошёл мимо весёлый. От гипертонии и солнца пылая как спирт. За ним четверо подростков навстречу шли. На манер негритосов – приплясывая, пуляя руками. В болтающихся майках почти до пят. Чуть не сшибли её (старуху) с ног. Да чтоб вас! А тут всенародный Голубков всё ещё впаривал почти с каждого дома. Куда ни повернись. Давно уже сдох МММ, а он всё впаривает: «Куплю жене сапоги!» Да сколько ж можно!
Вера Николаевна остановилась. Неожиданно для себя свернула к отделению связи. К отделению связи № 4.
В операционном зале оглядывалась, чтобы убедиться: тот, кого она ищет – на месте.
Решительно направилась к первому окошку, за стеклом которого сидела Ивашова.
– Здравствуйте, Вера Николаевна, – привстав, пролепетала Наталья. – Что-то случилось? С Юрием Ивановичем?
– Ни в коем случае! Всё у него хорошо! Просто отлично!
Вера Николаевна стучала пальцами возле стекла. С лицом независимым. С лицом себе на уме Мефистофеля. Готовящего кову.
– Тогда вы хотите, наверное, оформить у нас подписку?
– Точно так! Именно! Хочу! Только у вас! На газету «Наш город»! – выкрикивала Вера Николаевна уже по-военному. Словно для того, чтобы набежало больше свидетелей. Да!
Наталья, не поднимая глаз, быстро заполняла квитанцию. Пальцы над головой по-прежнему стукали. Совсем рядом.
Наталья подала квитанцию, назвала сумму.
– Отлично! – Вера Николаевна хлопнула деньги: – Получите!
Пошла на выход.
Что это было? Угроза? Демонстрация силы? Или просто жарко сегодня на улице? Наталья опустилась на стул.
В углу Баннова нашёптывала, поглядывая на виновницу несостоявшегося скандала. Но появилась Вахрушева – и разведёнки мгновенно оказались на своих местах. Ну а Баннова, опять в своей манере, показала начальнице почты потупившуюся толстоногую балерину, уносящуюся со сцены.
5
Наталья опустошенно сидела в парке. Никуда не хотелось идти. Неутомимый, выламывался и выламывался гигантский прорезиненный разноцветный человек. Фотограф и живописец хватали проходящих усталых людей. На танцполе настраивались-мяукали гитары, готовились дружно вдарить, чтобы земля задрожала. Небо было голым, предночным. И только вдали – подпираемая закатом – одиноко висела тучка свинцово-красного цвета, напоминая горящий замок.
Дома, прежде чем есть, Наталья по привычке потянулась к пульту.
Со своим постоянным бодряческим гимном на экран вылетела заставка «Санты-Барбары». Наталья тут же переключила канал. Но там ещё чище – изнемогали Лаура и Альберто.
На следующем канале шло ток-шоу с паганками-скандалистками. С незатыкающимися, как говорил Готлиф, ртами. «Да чёрт вас задери совсем!» Наталья взмахивала пультом. А тот никак не переключал. Видимо, из-за севшей батарейки. Наконец, открылась «Культура».
Показывали литературный курятник. Главный куровод – мужчина, всё время слушающий свои слова – пространно говорил о литературе. Его курочки и петушки во время рассуждений мэтра дисциплинированно сидели на двухуровневом насесте – рядок выше, рядок ниже – терпеливо ждали своей очереди. Чтобы тоже умно порассуждать. Наталья ела, внимательно смотрела и слушала.
Передача было регулярной, еженедельной. И поражало всегда то, что ведущий – этот умный, въедливый, добирающийся всегда до самой сути произведений писатель – сам так бездарно пишет. Ведь если убрать из его вещей порнографию, все модернистские его скабрёзности, читать будет нечего. Останется унылая однородная серая каша. Однако если бы кто-нибудь его спросил – «почему так пишешь, Въедливый?» – писатель тут же ответил бы, что всё так задумано. Что до его прозы нужно дорасти. И опять бы вслушивался в себя, переваривая сказанное.
Бродила у Натальи мысль, что умные рассуждения о литературе порой не очень дружат с творчеством самих таких рассуждающих писателей. Вроде бы возникает постоянно перед ними какой-то непреодолимый барьер, барьер между умом их и творчеством, через который они никак не могут перепрыгнуть. Ходят, примеряются, как спортсмены к высоте, а – никак. А если и сиганет какой, то планка непременно падает. Лучше уже просто ходить и примеряться. Пока не погонят со стадиона.
Мысль эту подтверждали и курочки с петушками, когда взахлёб начали так же умно рассуждать, как и мэтр. Двое были тоже писателями, и книги их Наталья читала. И говорили они о разбираемом произведении один лучше другого. Но, как и у мэтра, проза их казалась Наталье громоздкой, неуклюжей, беспомощной. То есть они почему-то оказывались умнее, интереснее своих написанных произведений. Почти всегда. В этом была какая-то роковая, необъяснимая закономерность.
Наталья перестала есть. Невольно вспоминались чьи-то слова – хорошие стихи всегда должны быть немножко глуповатыми. Относится ли это к прозе? Должна ли и она быть такой же? – умные петушки и курочки, походило, ответить на этот вопрос не могли.
Знал об этом хорошо Михаил Янович Готлиф. Незабываемый Миша. Помимо общих рассуждений – он имел ещё и талант. Два рассказа, которые он сунул ей однажды на ходу, сунул сердито, выдернув их из-под всегдашнего своего плаща, – ей очень понравились. Однако спустя день, когда она начала восторженно говорить о рассказах, на одном дыхании прочитанных ею, он сердито поднял руку: «Не надо!». Отнял рукопись и опять запустил куда-то под балахонный свой плащ. В закрытое для всех подполье своё. Стоял потом хмурый, гениальный, словно осыпался надоевшими читательскими аплодисментами. Бедный, бедный смурной Миша. Так и не смог пробиться никуда. Ни в одном журнале Наталья так и не встретила его имени.
6
В воскресенье Вахрушева с чемоданами и сожителем отбывала на юг. Широко шагала она по перрону к нужному вагону с одной только сумочкой в руке. Жестоковыйный, как мандолина, за ней тащил два тяжеленных чемодана Семён Семёнович. Разведёнки и холостячки торопились с сумками и какими-то коробками. Наталья отставала с большой сумкой.
Пока Вахрушева доставала билеты, Семён Семёнович торопливо вытирался платком. Опять с бровками в виде страдательных вздёрнутых скобок. Бедный Семён Семёнович. Доедет ли живым до юга?
Он полез с чемоданами наверх. Принимал от разведёнок сетки и коробки. Наталья закинула ему китайскую большую сумку, которую всё-таки доволокла.
Провожающие не уходили, ждали отправления. Обязательным для проводов сиротливым Политбюро. «Счастливого пути, Леонид Ильич! До свидания! Ждём Вашего возвращения!» Махали, идя за вагоном. Некоторые смахивали даже слёзы. Вахрушева у двери по-партийному, с достоинством пошевеливала коматозной рукой.
С привокзальной площади все сразу пошли в разные стороны. Как после просмотра кошмарного фильма.
В ванной Наталья долго отмывалась. От всех этих подлых проводов. С закинутым лицом, хлестаемая водой, видела, как тащила эту чёртову вахрушевскую тяжеленную сумку. Как махала и махала потом удаляющемуся последнему вагону. Его закрытой двери. Будто закрытой двери уезжающего кабинета, за которой словно и сидела насупленная начальница… Стыдобища, сказала бы незабвенная мама.
Вахрушева иногда чувствовала Натальино превосходство над собой. Особенно когда слушала правильную её речь. Мало того, что та не «чёкала», она ещё говорила: «достаточно» вместо «хватит», «благодарю вас» – вместо простого «спасибо».
Не без образования, окончив в своё время даже партийную школу – сама Вахрушева говорила только точным языком милицейского протокола. А когда требовалось – оборотами, блоками хорошо подкованного канцеляриста. Поэтому на Ивашову иногда сердито смотрели глаза цвета пережжённого йода. После её «интеллигентских» слов. И Наталья понимала тогда сама, что опять «попалась». Опять «проговорилась». Одна Послыхалина без обиняков ехидничала, передразнивая «интеллигентку»: «Сахара мне достаточно. Благодарю вас… Принцесса Турандот!» Наталья, конечно, могла бы запузирить им всем на современном, деревенско-городском волапюке, могла. Сама из деревни. Но предпочитала иногда подразнить начальницу и товарок, хотя бы в этом почувствовать себя отличной от них.
Сидела в комнате на диване, сушила, теребила полотенцем волосы. В телевизоре, изнеженно водя руками, вещал известный всей стране тусовочный субъект в высоком картузе. То ли парикмахер. То ли уже певец. С женским, сердечным, рисунком губ. С одеждой и внешностью расфранчённого экзотического насекомого, стоящего на задних лапках. Учил пожилую известную артистку, годящуюся ему в матери, как той нужно одеваться. Брезгливо смотрел на её квадратное, похожее на короткое мужское пальто, платье. Говорил «это же полный отстой, уважаемая, полный отстой». И всё ручками вокруг неё водил. Ага! – вдруг вспомнила слово тёмная Наталья. – Он теперь называется стилистом. Вдруг представила себя стоящей на месте этой пожилой артистки. Себя – слониху. В пёстром балахоне. Стилиста в картузе всего бы перекорёжило, наверное. Он начал бы материться. Как нередко это делает в прямом эфире. Кого вы мне привели? Мать-перемать! Это же лажа, полная лажа! Наталья горько смеялась.
Ночью длился и длился совершенно дикий сон. Будто бы они с Мишей Готлифом идут и идут по какому-то ночному городу, который сплошь состоит из телевизионных студий. Прямо под открытым тёмным небом эти студии. Высвеченные отовсюду светом с высоких железных ферм.
На громаднейших сценах, обстреливаемых лучами, как физкультурники, одинаково-чётко выламываются подтанцовки из мужчин и женщин. Как бы аккомпанируют скачущим певцам и певичкам с микрофонами. Взмывают и падают краны с телевизионными пушками. Со скукожившимися при них операторами. Волнами, каким-то одуревшим планктоном колыхаются в покатых залах зрители.
Наталья с удивлением останавливается, как будто впервые видит такое. Но Миша тащит дальше. Он явно чем-то озабочен.
Пошли студии поменьше, где по команде включаются и хлопают зрители. Затем студии совсем крохотные, в которых доверительно беседуют за столами только двое или трое. Снова студии с хлопающими по команде зрителями.
Наконец, Миша останавливается. Он нашёл то, что искал:
– Вот, Наташа, посмотри, какие ядовитейшие склочницы-поганки в этой студии. Они выскакивают здесь каждый вечер. Семь дней в неделю! С не затыкающимися своими ртами! Наташа!
Схватив большой огнетушитель со стола ведущей, начал бегать и тушить орущие рты пеной. Он жёг эти рты с садистским выражением лица. Бабёнки махались руками, ослепшие от пены, оглохшие, немые, а он жёг и жёг.
Наталья как через реку тянула руки: «Миша! Миша! Опомнись! Что ты делаешь! Не надо! Не надо бить пеной этих женщин! Лучше бей меня, меня, твою толстуху! Миша! Прошу!» Готлиф тут же повернул огнетушитель – и Наталья так же, как и скандалистки, замахала руками, захлёбываясь пеной. Да что же это такое! Села на диване. Часы на стене – горели. Вроде фосфорного мертвеца на кладбище. Проклятье! Упала обратно на подушку.
7
Вахрушева вернулась с юга в конце августа и сразу посадила Наталью на подписку. В окно №1. Никак не могла забыть августовские свои подписные кампании советского времени. В конце рабочего дня всегда спрашивала: «Сколько на сегодня подписчиков?» – «Целых два, Капитолина Ивановна!» – громко отвечала Наталья. «А кто они?» – всё ещё надеялась на что-то Вахрушева. «Славные ветераны труда, Капитолина Ивановна! Зайцева и Парнокопытов!» – всё дурачилась, выкрикивала вконец осмелевшая Наталья.