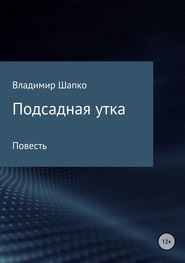По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Синдром веселья Плуготаренко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вахрушева с подозрением смотрела на подчиненную. Но та уже деловито перекидывала на столе три нетронутых новейших каталога для подписчиков. Точно взбадривала их, будила. Чтоб не дрыхли, значит, лентяи, были наготове. Прямо вся в работе. «Хорошо! Докладывайте мне обо всех подписчиках». Есть! – хотелось выкрикнуть Наталье.
Опять сидела в полном безделье. С тоскливой головой на кулаке.
В один из таких дней подписываться пришёл Проков. На две газеты и журнал. Для Общества. Наталья мгновенно узнала его. Вспомнила, как он орал песню и яростно дирижировал ей протезной рукой. Прямо перед носом: «Бат-тяня комбат! Бат-тяня комбат!» Точно не просто заставлял петь, а, по меньшей мере, хотел чёрным протезом прибить её.
По известным причинам Проков этого ничего не помнил. Смотрел в общем-то равнодушно на пригнувшуюся, быстро пишущую женщину. Которая, правда, почему-то сильно вспотела. Заплатил деньги, взял квитанции и двинул на выход.
И только на улице остановился… Точно. Она. Невеста Плуга. Вспомнил, как она знакомилась со всеми. Ходила вдоль стола. Он даже помнил её куцую ручку. Он был ещё трезв, когда она пришла. Он в это время ел пельмени. Много пельменей. Без водки. Специально. Чтобы не опьянеть. Ел, ни на кого не глядя. Точно прибыл с голодного мыса. А вот что было потом, после пельменей, когда выпил вдогон им несколько рюмок… Чёрт!
Проков трудно пошёл. Пить ему точно нельзя ни грамма. Наверняка так и было всё, как рассказывала Валентина. Сначала пыжился перед женщиной, учил жить. А потом заставлял орать со всеми песню и чуть не прибил протезом… И как теперь с ней? Если придётся разговаривать. В какую сторону глядеть?
У себя на Южной сидел на крыльце и курил. Одноглазый петух Корсар, оттоптав хохлатку, распускал крыло. Как бы снова жёстко затачивал «сабли». Валентина развешивала бельё возле сарая. Опять лебезила перед Евдокией Панфиловой, в соседнем дворе делающей то же самое.
Со значением Валентина поглядывала на мужа. Дескать – посмотри, как люди живут. Во дворе Панфиловых стояли две тучные иномарки. Одинаковые, как клоны. Ещё вчера стояла одна. Проков отвернулся. Да-а, жлобиха Евдокия – это не Катя Панфилова. Жена умершего Гриши. Две родные сестры. Небо и земля.
Проков снова закурил. И всё же – как зовут невесту Плуга?
Прыжками, зло пропухал мимо в сарай панфиловский кот. За ним побежала дура Пальма. Любопытная больше, не злая. Из сарая тут же послышался злой шип, мяуканье – и Пальма выбежала обратно: растерянная, плачущая как девчонка – и кровь брусничками капает с глупого носа. А кот-разбойник уже ходит в своём дворе, выписывает между белыми ногами хозяйки восьмёрки. И никаких, как говорится, извинений. Ни от кота, ни от гордой Евдокии.
– Так тебе и надо, дура.– сказал Проков подбежавшей собаке. – Знай теперь, куда лезть.
Держал на ладони исцарапанную скулящую морду, не знал, что делать. Достал платок, хотел промокнуть, вытереть кровь. Но Валя уже пронеслась в дом, приказав:
– Не вытирай грязным платком!
Обратно выскочила с каким-то пузырьком, ватой и бинтом. Все же медик как-никак. Правда, не ветеринар. Начала обрабатывать ранки на носу ваткой с перекисью водорода. Потом быстро мазала нос какой-то мазью. Собака скулила, вырывалась, но Проков, охватив её коленями, держал. В конце концов ловко перебинтованная по голове с захватом носа собака чем-то стала напоминать Гитлера со старой карикатуры. Где он, тоже весь перебинтованный, прямо через нос был пришпилен к земле длиннющим острым штыком сердитого красноармейца. Отпущенная псина ходила и мотала башкой возле самой земли. Словно стремилась освободиться не от повязки, а от штыка сердитого красноармейца. Проков хохотал, а прибежавший Женька сразу подхватил Пальму на руки и понёс в дом, зыркнув на отца. Как будто тот и сотворил всё это зло с собакой.
8
Бабушка Прокова, баба Груня, как звали её домашние, была ещё жива, когда он женился на Валентине. Успела даже понянчить правнучка, родившегося Женьку.
Мать и отца Проков не помнил. Он был ещё совсем маленьким, когда оба они погибли.
Вернувшийся с Победой домой Евгений Николаевич Проков почему-то сразу о войне забыл. Не ошивался по пивным, не вспоминал за пивом с водкой «вот мы на Одере», или «вот мы под Кенигсбергом». И хотя опять, как и до войны, стал работать инженером на механическом, словно бы и про инженерство своё забыл. В плановом отделе сидел – лишь бы день отсидеть. И всё из-за того, что начал ходить в походы. Сначала по окрестностям Города. Потом по всей области. Ну а дальше – и по всей стране. Словом, он стал заядлым туристом.
После войны туризмом даже и не пахло нигде, были рыбаки, охотники, это правда, но какие же это туристы? Он был первым в Городе, зачинателем движения, пионером. За год-два выработал стратегию и философию движения человека на природе. Возможно, даже самый первый начал петь и бить на гитаре у ночных костров.
Довольно скоро он стал обрастать единомышленниками, заражая их своей энергией и философией туризма. Каждую субботу десять-пятнадцать рюкзаков до неба планомерно уходили из Города вдаль единой дружной связкой.
Весь дом внутри был увешан теперь острейшими альпенштоками и связками надёжных верёвок. Он устраивал ночные посиделки единомышленников даже у себя во дворе. Для тренинга, как сказали бы сейчас. У ночного разведённого им костра. В отблесках которого стойко блестели медные счастливые лица его друзей. Он отмахивался от матери (бабы Груни), боявшейся, что он спалит и дом, и все дворовые постройки. Он наглядно показывал ей полную безопасность своих мероприятий, в конце посиделок всегда лично заливая костёр водой из колодца. Весь двор при дневном свете стал напоминать брошенные индейцами стоянки. Куры по утрам подолгу рассматривали чёрные кострища. А баба Груня с болью начала понимать, что сын вернулся после фронта, после Победы не со всеми шариками в голове. До войны он был совсем другим.
Как он держался на работе – непонятно. Нормально работал он только зимой. С мая месяца он был уже в походах. Помимо отпуска, постоянно брал без содержания.
Он и женился как со льда обломился, встретив свою единственную в самолёте Ли-2, летя вместе с ней, своими единомышленниками и рюкзаками в Сыктывкар, где она жила с матерью и отцом. Звали её Галя Забийворота. Невероятно, но, как рассказывала потом баба Груня внуку, после похода он заскочил обратно в Сыктывкар, зарегистрировался с невестой в загсе и привёз домой. Уже своей женой. На всё это (вместе с походом) у него ушло две недели.
Он сразу начал таскать за собой молодую жену. В медовый месяц они топали с рюкзаками по горным тропам Алтая. Работать он жене не давал и, для отвода глаз определив домохозяйкой, таскал за собой смело. С ней он побывал и на Валдае, и даже в Восточной Сибири.
Так в славных походах прошло девять лет. В 57-ом, к большому его удивлению, жена забеременела, а потом и родила. Пока кормила маленького Кольку грудью, он ходил в походы без неё. С единомышленниками. Едва отняла от груди, опять начал таскать за собой, оставляя любимого маленького сынишку на попечение бабушки, своей матери, которая костерила туриста последними словами.
В 60-ом году, призаняв где-то денег, он отправился с женой и единомышленниками в дальнюю поездку. На Енисей. Для полноценного многодневного сплава по великой реке. Ладно хоть двухлетнего сыночка с собой не прихватил. А хотел. Подготовил даже для ребёнка подходящую надёжную амуницию. Этакую ременную парашютную ловушку. Однако баба Груня встала горой: не дам! Не дам ребенка как рюкзак по горам таскать!
Это было последнее путешествие туриста. В низовье Енисея, на порогах, он перевернулся с плотом. Вместе с единомышленниками. Его самого не нашли, выловили только мёртвую жену и ещё двоих, тоже мёртвых.
Похоронили всех в ближайшей по течению деревеньке…
Баба Груня побывала через пять лет в той крохотной деревушке на высоком берегу большой реки. Поплакала на могилке снохи, больше всего терзаясь, что могилы сына на земле нет.
Всю эту историю об отце и матери Проков узнавал постепенно от бабушки в детстве.
Когда умерла сама баба Груня, у Прокова, потерявшего единственную родную душу, всколыхнулось что-то давнее. Словно бы забытое им. Он вдруг захотел поехать на Енисей и попытаться отыскать могилу матери. Из рассказов бабушки он помнил название этой деревушки на крутом берегу Енисея. Начал было собираться в дорогу, но как-то остыл. Он просто не помнил свою мать. Её будто и не было никогда. В реальности у него была только одна мать – бабушка. Баба Груня.
Хлебая сейчас щи, поглядывал на два фотопортрета на стене – погибших отца и матери. Отец почему-то бешено смеялся. Чем-то напоминал теперешнего Плуготаренку. Мать же с прической волнами на щеку (на бок) – сложила губки капризным сердечком.
Сколько помнил себя, фотопортреты висели здесь всегда. Юненького Прокова баба Груня наставляла только под ними. Показывая на них. Как на иконы, как на легенды… Ругала даже под ними маленького драчливого пацанёнка в хвостатой, извоженной белилами гимнастёрке. С разбитой, шмыгающей носопыркой. «Что бы они тебе сказали! А? Что! Если бы были живы! Отвечай!»… Бедная баба Груня.
Сын Женька сидел на диване. Не садился обедать с отцом и матерью. Косоурился, как сказала бы незабвенная баба Груня. По-прежнему удерживал у себя на руках собаку с перебинтованным носом. Пусть все видят, что сотворили с его лялькой.
– Иди, у себя держи, – безжалостно сказала сыну мать, имея в виду его комнату.
Проков глодал мосол, Размышлял. Смотрит ли когда-нибудь сын на портреты, что висят сейчас у него прямо над головой. Видит ли он в них своих деда и бабку. Или это для него портреты в музее. Куда их недавно водили всем классом. Ничего не говорящие замшелые раритеты. Прабабушку свою, бабу Груню, он чтит. Это правда. Портрет её перевесил даже к себе в комнату. А вот эти, родные дед и бабка – кто они для него?
Отобедав, Проков пошёл на крыльцо покурить. Собака разом бросилась с рук Женьки. Брякнулась даже на пол. Женька глазом не успел моргнуть.
– Ну что, Гитлер израненный, будешь ещё за котами бегать? – гладил у себя на колене преданную собачью морду. Псина в бинтах и вате жмурилась под рукой, виновато поскуливала.
Остаток дня у Прокова прошёл обычно – в Обществе. Вечером дома помогал жене закатывать банки с соленьями. А ночью, во сне, с Пальмой, как с сыскной собакой, долго ходил по какому-то провинциальному музею. Сам был в милицейской фуражке и с пистолетом на боку. «Ищи!» – говорил и распускал длинный повод, давая собаке свободу движения. Пальма бегала между музейных раритетов, лежащих и стоящих повсюду, вынюхивала. Со стен, из чернозёма старинных картин, на них печально смотрели никому не известные, давно умершие люди. «Ищи!» – всё приказывал Проков. Вдруг Пальма зацарапала стену, залаяла на одну из картин, висящую в самом углу. Повернула морду к милиционеру-хозяину. Милиционер-хозяин тут же подбежал. Из старинной картины, светясь, на него хитрюще смотрела словно бы живая женщина. С русой волнистой гармошкой на щеку и с пиковым рисованным сердечком на губах… «Мама!» – закричал Проков, проснулся и сел. «Чего орёшь! – толкнула жена. – Женьку разбудишь». Как железный, Проков медленно лёг на подушку обратно.
9
Утром с улицы забибикала инвалидная мотоциклетка.
– Иди. Громышев твой. Персональное авто подано, – ехидничала жена, убирая со стола посуду.
Проков быстро одевался. Когда вышел за калитку – Громышев ждал его почему-то на скамейке.
Закурили. Смотрели на инвалидную таратайку с заглохшим мотором и распахнутой дверцей. Машинёшка чем-то напоминала шлем крестоносца после битвы. Искуроченный, валяющийся у обочины дороги.
Помолчав, Громышев словно бы продолжил начатый с кем-то вчера разговор:
– Знаешь, что я тебе скажу на твои слова (какие слова? – хотел спросить Проков), у каждого в Афгане была своя судьба. Один постоянно был в боях – и ни одной царапины. Другой кантовался при штабе – и погибал. А меня возьми – повар. Кормил солдат. Ни в одном бою не участвовал, под пули не шёл, а ноги оторвало…
Бульдожье лицо его никак не соотносилось со сладкими губами, которые вытягивали табак из сигареты, как сладкую песню. Печальный тихий стих Громышева продолжался:
– В госпитале рядом со мной лежал парализованный от ранения штабной офицер. Старший лейтенант. Виктор Бажанов. С таким именем и фамилией, если бы не Афган, быть бы ему сейчас большим генералом. Однако судьба распорядилась по-другому. Однажды он рассказал нам в палате свою историю. В Кабуле ждали шифровальщика из Союза. Он должен был работать при штабе. Полгода или год обучался в спецшколе. И вот он прилетел. Его, долгожданного, как большого начальника, штабные офицеры встретили на аэродроме. И Виктор Бажанов был там. Нетерпеливые, они сопровождения дожидаться не стали, сразу повезли в часть. Ехали на уазике впятером: подполковник, капитан, старший лейтенант (Бажанов), долгожданный шифровальщик и водитель-рядовой. И вот едут по Баграмской дороге где-то в районе Карабага, радуются, похлопывают шифровальщика по плечу: дорогой ты наш! Сколько мы тебя ждали! Вдруг их обгоняет ЗИЛ и перегораживает дорогу. Выскакивают из него духи и в упор открывают огонь… Шофер и шифровальщик погибли на месте. Виктора тяжело ранило в позвоночник, он сразу потерял сознание (это его и спасло), ну а доблестные капитан и подполковник чесанули в зелёнку, как зайцы. Душманы тоже не задержались – исчезли в кустах, как их и не было. На дороге остался целёхонький ЗИЛ, а перед ним – изрешеченный пулями уазик с тремя, если посчитать и Виктора, трупами… Вот, Коля, – это судьба. Прилетевший шифровальщик даже дня не прослужил в Афганистане. Были ли захвачены душманами шифры, знали ли они вообще о них – неизвестно: при допросах Виктору об этом, естественно, не доложили. Но судьбу сбежавших и бросивших всё капитана и подполковника – представить нетрудно…
Когда уже машинёшка трещала, подпрыгивала на ухабах, сквозь треск прорывались слова Громышева:
– Опять же нас с тобой возьми, Коля. Или Юру Плуга. Нам повезло наполовину. Мы вернулись живыми, но уродами. Мы живые уроды Афгана.