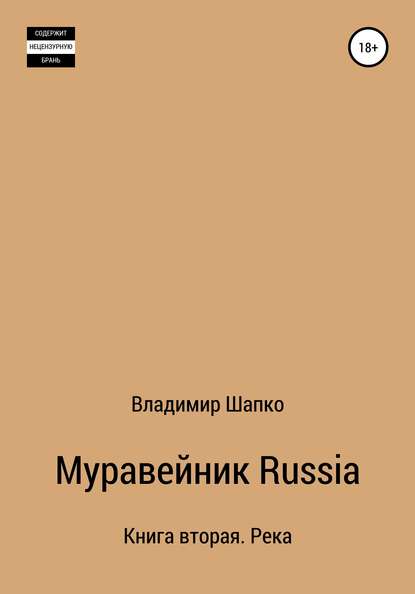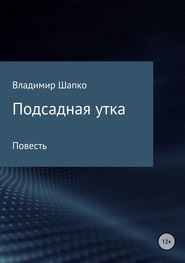По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Однако кончилось всё это нехорошо, гадко… Вечером Переляев тыкал пригибающегося Жогина кулаком. (Жогин словно уворачивался, уходил. Как боксёр.) Тыкал метко. В голову. Ослепляюще – в лицо…
Кропин бросился, еле оттащил сожителя Чуши. Сама Чуша обиженно куксила губы возле своей двери. Потом благодарно приняла победителя в объятья, ступила с ним в комнату и захлопнула дверь.
А Жогин, как сломавшийся автомат, всё продолжал уворачиваться и пригибаться:
– Я запомню это! Запомню! – Плакал: – Сволочи! Гады!
Кропин как мог успокаивал его. Потом увёл к себе.
Несколько дней Дмитрий Алексеевич не разговаривал с Чушей и даже не здоровался.
– А чего это ты, Кропин? Надулся, что ли? – спросила она его всё в том же коридоре. На груди поправив попугайный свой халат. Как бы сама скромность и чистота…
В Кропине разом забушевало всё, красно хлынуло наверх, на лицо:
– Ты… ты… – Старик не находил слов: – Ты завлекала его! Завлекала… выставляла ему!.. я видел!.. а потом… а потом… Предательница!..
– Чего-о? – отклячила губу женщина. – Это ему-то выставляла? Пьянчуге этому?.. Опомнись, старик!
С возмущённым достоинством пошла. Но на громадных атласных её ягодицах попугаи, несмотря ни на что – спаривались, целовались…
Потом всё как-то сгладилось между соседями, забылось. Побитый домогатель вскоре укатил куда-то в Подмосковье на халтуру. Сумел втиснуться в бригаду хватких бородачей в беретах. Что-то там подмалёвывать им, грунтовать. Гонять за поллитрами. То ли в новом клубе всё это должно было быть, то ли в старой церкви. Кропин не очень понял – где…
«Все долги разом отдам! Алексеич!» – ликовал художник. Метался по своей комнате, сбрасывая в сидор краски, кисти, палитру, шпатели – всё необходимое для работы. Кинул Кропину ключ: «Закроешь!.. Ну, пока!» И как был – в осеннем мешочном своем пальто, в чёрной вязаной шапке до глаз, – как наскоро составленный в милиции фоторобот преступника – выметнулся с сидором за дверь… Кропин немного прибрался у него и тоже вышел. Доверенным ключом дверь закрыл на два оборота. Так оно лучше будет. Надёжней. Чуша и Переляев из кухни угрюмо смотрели…
По утрам, помешивая на плите пожизненную свою манную кашку, Кропин стал замечать что-то новое в отношениях этой соседской пары. Если раньше Чуша прямо-таки плавала по кухне, откармливая своего сожителя, и глаза её нежно косили от счастья, то теперь она только фыркала на него: отстань!.. В чём дело, ломал голову Кропин. И «сено» по ночам перестали косить. И ставить к «сену» пластинки… Неужели Чуша беременна? И как теперь будет у них всё?
Однако Переляев бодрился. Подмигивал Кропину. Мол, ничего, привыкнет. У них всех сначала так. Нередко теперь приносил цветы. Сам ставил в кухне на стол. (Смотри-ка, верным оказался!) Но после окриков грустил в цветах. Как бобик…
Как-то Кропину пришлось поменяться дежурством, и в тот день часов в одиннадцать он вернулся домой обратно.
Долго искал почему-то ключ. Не мог войти в квартиру. Нашёл, наконец, его в хозяйственной сумке, в кармашке. Куда сроду не прятал… Открыл дверь.
В коридоре было тихо, но горел свет… Странно. Жмот Переляев, уходя, никогда не забывает щёлкнуть на стене. Да и Чуша такая же. Большие экономы.
Кропин хотел выключить свет и пройти на кухню, как вдруг в Чушиной комнате что-то загремело, упало на пол. «Ну ты!» – крикнула Чуша…
Кропин замер. С Переляевым она, что ли, там? Так на работе же должны быть? Оба? Рабочее же время?..
Внезапно из комнаты Чуши выскользнул какой-то мужчина. С пальто на руке и в шляпе. Совершенно незнакомый Кропину мужчина! Быстро прикрыл дверь. Мгновенно сунул и повернул ключ. Столкнувшись с вытаращенными глазами Кропина, заговорщицки приложил палец к губам. (Кропин так и стоял, разинув рот.) Подмигнув, мужчина на цыпочках пропрыгал к входной двери, удёргивая за собой по полу длинный пояс от пальто. Отщёлкнул английский замок – и исчез, захлопнув дверь.
За стеной сразу побежали тяжёлые босые ноги. Из-за двери послышалось:
– Эй, ты! Открой! Слышишь? Как тебя? Кому говорю?!.
Дверь затряслась:
– Открой, гад!
Кропин бросился. Повернул оставленный в двери ключ. Чуша вывалилась прямо на Кропина:
– Где он? Где этот? Ну тут был! Где?!.
Женщина была голой. Совсем! С громадными грудями, с сосками, как сургуч. Как с лепёхами сургуча!
Глаза Кропина словно опутывали её всю веревками. Как громадный моток, как бобину! Чтобы не было видно всего этого белого, обнажённого! Бормотал:
– Кто? Кто этот? Который из твоей двери?..
– Да, да! Этот, этот! Ну!..
– Ушёл, удрал, выскочил!.. Чуша – куда?!.
Голая женщина неуклюже побежала к входной двери, зацепилась ногой за тумбочку и половик, тяжело повалилась на пол.
– Гад! Гад! Не заплатил! Сволочь! – мотала головой, била кулаком в пол. Со сваленными набок кучами зада и ног. – Гад!..
Кропин метался, накидывал на неё халат, сдёрнутый с верёвки в ванной. Но женщина сбрасывала халат. Всё кричала, всё стукала кулаком в пол: Гад! Гад! Гад!..
Потом с халатом этим, сползшим с её плеча, висела она всем телом на старике и сотрясалась от рыданий. Кропин откидывался, выгибался, готов был опрокинуться. Однако пятился с нею в её комнату, хватаясь за бока женщины как за гужи. И уже завёл, но послышался щелчок замка входной двери… Женщина разом отстранила Кропина, ринулась в коридор, на ходу вдевая в халат вторую руку.
Переляев вытирал ноги о половичок у двери. Женщина подлетела и сразу стала бить. Бить по-мужски: и с правой, и с левой руки. Приговаривая:
– Вот тебе деньги на наш кооператив! Вот тебе наша свадьба! Вот тебе, подлец! Вот тебе! Вот тебе!
Переляев пригибался, прятал голову. Уходил от Чуши в точности как Жогин, когда он сам бил его. Нырял. Сумел выскочить за дверь – вниз по лестнице застучали его ботинки.
Чуша сразу обрела себя. Кропин ей был больше не нужен. Она деловито прошла мимо него, перед этим выдернув из ванной громадный вывернутый свой бюстгальтер.
Потом, очень быстро одевшись, так же быстро пошла из квартиры – толстые ноги в красных чулках двигались как две большие доли апельсина.
Кропин стоял и только мотал головой. Кропин, казалось, ушиблен был навек.
Однако уже через несколько минут кричал по телефону Кочерге: «Ты знаешь, что Переляев удумал сделать с Чушей?..– И бил ключевой фразой всех сплетников и сплетниц: – Ты не поверишь!..»
14. «Старую собачку новому фокусу не научишь!»
Белая рубашка его давно превратилась в манишку. Манишку приказчика, приказчика-сердцееда. То есть была без рукавов и почти без спины. «Под пиджак, под пиджак!» – таскал на стол и посмеивался сердцеед с голыми мускулистыми руками. Серов смотрел на друга своего Дылдова, на оборванную эту его рубашку, и на глаз, что называется, набегала слеза. Бутылка на столе тоже была одинока. Несчастна. «Акдам». Жалкий до слёз. «Всё, Серёжа. Всё, – говорил Дылдов. – Тебе – хватит. Больше не будет. Учти». Дылдов не пил. Уже две недели. Со сковородки наваливал другу жареную картошку. Чтобы тот поел, прежде чем пить. «Старую собачку новому фокусу не научишь!» – как-то брезгливо сказал Серов. Красная резиновая дрянь полезла в него из стакана как лава.
Серов резко проснулся. С запрокинутой головой. С разинутой пастью. Которая ощущалась грязной пересохшей пепельницей. Пошамкал ею, нагоняя слюну. Скосил глаза – комната была пуста. Как пух, не ведающий опоры – взнялся. Сел. На столе у самого подоконника стояли бутылки. Много. Очень много. Толпы бутылок. В толстостенное круглое дылдовское окно, как в стереотрубу, всё время заглядывали пешеходы. Все с бобовыми лицами. Думали, что принимают стеклопосуду.
Под брань соседки Дылдова вытолкнулся на улицу. Через дорогу, в аллее шугал метлой листья сам Дылдов. Пружинные помочи, держащие обширные штаны крючника, имели вид подпруг. Ущербляя себя до размеров тараканчика, Серов задёргался в противоположную сторону. В сторону Пушкинской. Впереди шла женщина в кожаном пальто. Качала тяжёлым задом, будто вылосненным маслобоем. Серов почему-то не мог оббежать её. Тыкался с разных сторон. Как овощ на огороде, вышел большой грузинский глаз. Глаз женщины грузинки. «Чего тебе, Малчык?» Серов шмальнул во двор Литинститута. Тяжело дышал, вытаращившись на Бородатого. Как и тот на него. Голубь дриснул. У Бородатого скатилась белая слеза. Скатилась точно у поставленного в мучительный, несуществующий угол. Сразу захотелось вытереть. Помочь, выручить. Но – как?! Ведь пьедестал не вместит двоих!..
15. Царские часы, или Играем оперетту!
…Часы, о которых Серову напоминали потом всю жизнь, были вручены ему в день рождения. Одиннадцатого января. Вручены Евгенией в столовой в конце обеда, уже после нескольких рюмок. В присутствии всех домочадцев. У Серова никогда не было своих часов. Он год уже был женат. Учился на третьем курсе института. Прошёл благополучно военку. Получил военный билет. Лейтенант. Младший лейтенант. А часов своих – никогда не имел. Да. Это были первые. Он сразу надел их. Тут же за столом. Часы на руке выглядели обширно. Размером чуть ли не с компАс. Именно – компАс. Царские часы! Серов встал и классически – с круто оттопыренным локотем – поцеловал Евгению. Предварительно вскочившую. Все захлопали. У одной только Марьи Зиновеевны (тёщи) глаза злорадно вспыхивали. Силой взгляда подгребали к себе разные предметы. Такие, как торт на подставке, очень удобный под руку. Смачный холодец. Которым тоже хорошо вмазать в рожу. Серов – Марье Зиновеевне – проникновенно улыбался. Уже с конспектом у груди. Это самое дорогое, что есть у него. Самое дорогое. (Всё тот же Моцарт. С нотами.) Нужно идти прорабатывать. Простите. В тот же день, вечером, он обмывал часы в общаге. На Малышева. С сантехником Коловым, вечерником Трубчиным и вечным аспирантом Дружининым. У тараканов всё шли выборы. Тараканы дружно бежали по стене. Да это же на пионера, оскорблял часы Трубчин. Дешёвка. Это обижало. Возникал спор. Дружинин и Колов были не согласны. Были на стороне часов. Пытались отыскать достоинства в компАсе. С заметным беспокойством поглядывали на бутылку. Мелеющую неотвратимо. Серов бегал. В ближайшие гастрономы. Выборы на стенах продолжались. Потом он оказался на лестнице свердловского почтамта. Сверял эти подаренные часы с часами какой-то девицы. В лохматой шубке, на тонких ножках девица походила на чижика-пыжика. Она свеже смеялась, весело смотрела на куролесящего парня, который охватывал её лапами. Вела его куда-то. Серов почему-то был уверен, что это одна из тех двух тёток Евгении, у которых начернённые глаза всегда были как невиноватые ночные бабочки. Где сестра! – спрашивал. Куда делась! Не горюйте! Мужики вам будут! Отличные мужики!.. Очнулся в каком-то подъезде. В темноте. На кафеле вроде бы. У батареи. Ощупал руку. Глянул. Часовой механизм фосфоресцировал как зубастый радующийся мертвец. Тикал, мерзавец! Уф-ф, обошлось. Часы сняли у него через неделю. Опять пьяного. Поздно вечером кемарившего с папироской на одной из оснеженных скамей на набережной Исетского пруда. Он только помнил лёгкую, как ветка, руку, ласково обнявшую и похлопавшую его по плечу: что, друг, кемарим? Он ответил твердо: кемарим! Да! И всё пытался разглядеть лицо. Которое увиливало как канкан. Которое нахихикавшись, развратно навихлявшись, исчезло. Рука сразу стала не обременённой ничем. Рука стала свободной. Над маленьким скукожившимся Серовым бежали заветренные поддымливающие облачка. Свердловская загазованная луна меняла маски. В небе по очереди являлись то вдруг ставший полностью белым негр Порги, то разом ставшая чумазой его белая подруга Бесс. То небывалый, белый, Порги, то совершенно чумазая Бесс.
16. Далёкий привет от тёщи, или Недоразвитый ангел