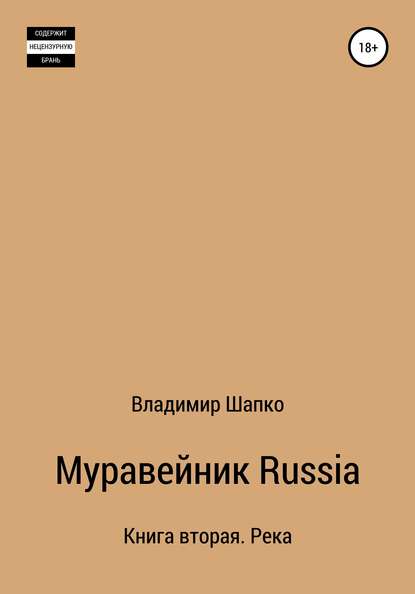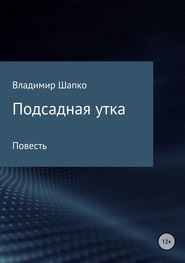По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Минут за пятнадцать до начала Серов стоял в коридоре возле актового зала. Какими-то нагипертоненными бубнами постоянно пробегали активисты. (Готовили людей? выступающих?) Нестерпимо хотелось уйти, бежать и в то же время остаться. Дождаться, чем всё кончится. Это собрание. В зал уже валили студенты. Некоторые подмигивали Серову. Другие – дубовели лицами, разом не узнавали. Стоящий на виду у всех Серов – вроде нарывался. Сам нарывался. Словно приглашал на расправу над собой, на свою гибель… Однако не верилось в расправу. Нет, не верилось. Не посмеют. Не должны. Ладно. Будет что будет.
Рядом была раскрыта ещё одна дверь. В артистическую. Где прятался выход на сцену. От всё больше и больше охватывающего стыда… Серов спятился в неё. При ярких светильниках по стенам – стол, два дивана, стулья. На столе длинный аквариум. В аквариуме стая мелких рыбешек. Одинаковых почему-то. Одной породы. Гупёшек вроде бы… В комнату неожиданно втолкнулся Трубчин. Вздрогнул, увидев Серова. Сразу начал ходить вдоль аквариума. Серов стал ходить вместе с ним. В озабоченную ногу. Куда ты пропал, Генка?! Надо же договориться! Что будем говорить! Колова с Дружининым в это дело путать не надо. Ни о каком твоем споре с Дружининым даже не заикайся! Слышишь?! Просто пошли посмотреть. Понимаешь? Сами. Ведь так, собственно, и было. Какое в этом преступленье! Генка! Всё же просто! В чём наша вина? Что оказались слишком любопытными? Так простите нас, простите дураков! В другой раз умнее будем! Ведь научили, наказали уже! Чего же ещё? Надо держаться вместе. Только вместе. В этом наше спасенье. Ты понимаешь, Гена? Серов всё ходил с Трубчиным, клал руки ему на плечи, чтобы остановить, чтобы увидеть его глаза. Всё внушал. Понимаешь? Только в этом! Трубчин же не в силах был остановиться. Трубчин перетаскивал с собой Серова. Перетаскивал будто навешанную большую гирю, словно неимоверного веса галстук свой. Бормотал. Какой разговор! Серёга! какой разговор! конечно! Как от немых выстрелов, пестрая мелочь стайно шмаляла от Трубчина куда-то в сторону. И останавливалась. Шарахалась – и резко останавливалась. Трубчин споткнулся, уставился на рыбёшек. Глаза его стали дики. Тю-тю-тю, постукал ногтем по стеклу. Рыбки! И снова заметался вдоль аквариума. Серову захотелось надеть зелёный этот сосуд ему на башку. На трусливую его головёнку. Тю-тю-тю! – стукал рыбкам ногтем Трубчин. И опять куда-то устремлялся. Ты больше молчи, Гена. Говорить буду я. Слышишь! Раз боишься. Какой разговор! Серёга! конечно! тю-тю-тю! какой разговор! Тю-ю-тю-тю! Глаза Трубчина вдруг снова сделались безумными. Теперь Трубчин увидел светильник на стене. Мерцающий сосуд и все чугунные причиндалы были выполнены в виде накалённой морды тура-козла. А? Серёга?.. Спасаясь, Трубчин кинулся к аквариуму. Тю-ю-тю-тю-тю! Рыбки!..
Ведя их в зал, Эмма Глезер сопела Серову в затылок. Нетерпеливо поталкивала коленками. Поталкивала как не имеющими стыда женскими какими-то своими лихоманками! Вот сволочь ещё! Серову хотелось лягнуться. Втолкнув героев в зал, плотно закрыла дверь. Только теперь изнутри зала.
Зал был битком. Сообщение делала Чекалина. Стоя на сцене, за красной, понятно, трибуной. После каждых двух-трех предложений, предложений обличительно-патетических, разящих – делала долгую паузу. В это время жёлтые глаза её на круглой морде кота – широко и отчуждённо светили. Будто приданные семафору. Открывали в зале дорогу гулу. Большому гулу. (Гудели активисты и подготовленные ими люди.) Таким образом отправляла поезда – раз пять.Закончила она так: «Пусть выйдут! На сцену! Перед всеми! И ответят!» Свернула бумажки и стала спускаться со сцены. Но не со стороны, где с краю первого ряда сидели преступники (Серов и Трубчин), а с противоположной – где тоже в первом ряду восседал весь партком, местком, комскомитет и даже сам Шилобреев. Ректор. Полный мужчина в просторном пиджаке, с лысиной в кучерявом венце – как надолб… В зале стало тихо. Тянули головы. Ну к негодяям. Ну в первом ряду которые. Слева. Серов в неуверенности привстал, поглядывая в зал и ожидая Трубчина. Мол, чего же ты? – пошли. По-цапельному резко и высоко тот передёрнул ногами. Вскочил. Затоптался. Пошли. Полезли на сцену. Встали неподалеку от трибуны. Маленький Серов точно подпирал собой совсем раскисшего Трубчина. Начал говорить. Рассказывать, как было дело. Говорил правду. Во всяком случае, почти правду… Ну выпили… Немного… Решили увидеть нашего дорогого Руководителя Страны… Ну вблизи… Вживую… Тем более, Гена (ну Трубчин) в театре работает… Пропуск у него есть… Ну и пошли… А там нам руки начали ломать, а потом пинать ногами!.. Вот так… было…
Чекалина вскочила. «Он даже не понимает, что говорит! Он ничего не понял! не осознал!» Распахивала рукой на Серова, направляя гул. (Подготовленные исправно гудели.) Серов пытался что-то сказать, но Чекалина громогласно кричала: «Хватит, Серов! мы вас поняли! замолчите! хватит, я сказала!.. Пусть говорит теперь Трубчин! Говорите, Трубчин! Мы вас слушаем!» Генка дёрнулся и задрожавшим голосом заговорил. Сказал буквально такое: «Я прошу простить меня… Простите… Я обещаю, что буду выбирать друзей… достойных друзей… Обещаю, что больше не поддамся на провокации…»
От услышанного Серов оторопел. Не поверил. Ни ушам своим, ни глазам. Серов длинного Трубчина… начала избивать. Натуральным образом. Сию же минуту. Прямо здесь, на сцене. Фитилястый Трубчин откидывался от разящих кулачков маленького Серова, отступал. От пинков его кидало на стороны. В зале привстали и разинули единый рот. «Да сделайте что-нибудь! Сделайте! – подпрыгивал в кресле, точно привязанный к подлокотникам Шилобреев. – Сделайте!» И венценосный надолб его стал багровым, как мясо. Но Трубчин был уже на полу. Серов сам перестал махать кулаками. Постоял. Волчонком глянул в зал. Сбежал по ступенькам в предбанник, за сцену. Исчез. Аплодисментов не было. Трубчин всё корячился на полу. Точно собирал себя, рассыпанного. Плакал. Мильтоны бьют! Гад этот бьёт! За что?! Зал гудел. Теперь уже весь. Спрятавшаяся в последнем ряду Никулькова быстро пригнулась. Закусила руку. Как собака кость. В свитере взбалтывая грудь-плотину, на сцену уже лезла Эмма Глезер. Лезла выступать. Лезла клеймить. Присогнутые разлапистые ноги её точно влипали в ступени…
Помимо исключения из комсомола (почти единогласно проголосовали), приказ на Серова был уже к четырём часам в этот же день. За проступки, порочащие звание советского студента, из института – отчислить. Дата. Всегдашняя ректорская подпись. Как рассада огородная. «Шилобреев». Серов застыл. Смотрел на роспись как привязанный. Никто возле доски приказов не останавливался. Серова и доску приказов – обтекали. Так беззвучно сплывают во сне реки. Убегают онемевшие ручейки. Серов смотрел на чернильный идиотский куст. Гады! Сволочи!..
…Напился он в тот вечер страшно. Что происходило потом – помнил смутно, отрывочно, почти бессвязно… В чёрном холоде ночи где-то за городом (на Шарташе? ещё ли где?) последний пустой трамвай, выкинув Серова, зло бежал в трамвайном кольце. Будто топор точил – искры летели россыпью… Потом там же, в полной тьме, погибая, Серов проваливался в каком-то подмёрзшем болоте. Проваливался в ледяную грязь по щиколотки, по колено, ахал по пояс. Серов был один. Серов погибал. Болоту не было конца…
…Полз снизу на полотно. На железнодорожное. Руки загребали, скребли оледенелый шлак. Полз, царапался, сваливался назад подобно свихнувшейся драге… Наверху тяжело дышал, уперев руки в насыпь, будто в чёрную поверженную стенку. От которой бы только оттолкнуться, встать… Встал всё же на карачки и выкачнул себя на полотно… Пошёл. Шиб?лся меж рельсов как мягкий тряпичный шарик…
Сонное в тумане оконце Серову хотелось издали погладить… Шёл к нему, как слепец тянул руку, улыбался… К стенке дощатой будки привалился возле этого окна: всё, он дошел. Как сама, явилась из пальто бутылка. Серов отпил. Раз, другой. Завозился, заворочался на стене, ища курево в карманах, спички. Всё было мокрым. Пропало. Одна бутылка вот только. Отпил ещё. «Ты что здесь делаешь, дружок? Ты как сюда попал?» Глаза женщины были близки, удивлены чрезвычайно. Это сложный вопрос, уважаемая, ответил Серов и опять приложился. Очень сложный вопрос. В голове уже красно шумело. Можно сказать, в голове опять бушевало. Что-то пытался женщине объяснять. Трудно ворочал перед ее лицом лапами. Всё время повторял – «уважаемая». Гундел что-то про жену, про собрание. Потом вроде бы про пятнадцать суток. Вдруг построжал. С пальцем. Но смотрите, уважаемая! «Э-э, да ты опять хорош!» Серова начали подымать, отдирать от стенки. Серов думал, что ему сразу же дадут под зад. Поставив на ноги. Поэтому растопыривался, сердито бормоча: «Я сам! я сам! уважаемая!» Однако женщина, умело поднырнув, закинула руку героя себе на плечо, другой своей рукой ухватила за поясницу – и поволокла к крыльцу, к двери. (Классическая композиция! Жена тащит пьяного мужа!) Серов висел как альпинист. Которого втягивают в гору – бутылка везлась чуть не по земле. Серов только перебирал, набалтывал ножонками. Вроде как помогал. Женщине. Благодарно смущался. Ну зачем вы так. Я сам могу. Не стоит. «Да ладно тебе! Помолчи!» Серов был доволен: уважает. В будке, куда ввалили и оказались на свету коптилки, женщина опять воскликнула: «Да ты как тысяча чертей! Дружок! Весь в грязи! Никак по Шарташу, по болоту блуждал!» Я в порядке, уважаемая, сказал Серов. В полном. Выпятил грудь, напыжился. И как был – в длинном пальто, мокрый и грязный – пал. Назад, навзничь – бутылка покатилась по полу. Женщина смеялась, уже снимала с него одежду. Потом завалила голого на какой-то топчан. Накинула кожух как тьму. Спи давай! И всё померкло.
Проснулся через час. А может, полтора. Проснулся от жары. В каменной белёной печке гудело. Женщина стирала у двери, дёргалась над корытом. Что за чёрт! Женщина была почти голой! Она скакала над корытом в одних голубых панталонах в колено! Как поджарый присогнутый жокей на дистанции! Груди дёргались увесисто. Груди были как вцепившиеся в неё снизу дети. Ребёнки!.. Серов сделался мокрым, как мышь. Неужели всё уже было?! С ней?! Ощупал у себя. Ответа не было. Коптилка залпом выпустила к потолку кучу чертей из хлопьевого чада… Медленно-медленно начал поворачивать себя к стенке. Запирал дыхание. Старался не скрипнуть. Повернулся, наконец, унимая сердце.
Трудовая рабочая ладонь обходчицы, тронувшая его голову – ощущалась в темноте как сверху сухой, отполировавшийся слизень. Как крепко подсохший моллюск. Даже после мыла, после стирки пахнущий мазутом. «Ты спишь, Серёжа?» Серов сказал, что не спит. Глаза его не видели даже стенки. Таращились в полной тьме. Рука женщины робко гладила его. Гладила волосы, ухо, щеку. Точно рукоположенный, боясь задрожать, Серов напрягался. Вы бы осторожней со мной, уважаемая! Я ведь женат! Это было сказано с угрозой. Как будто он, Серов, по сексуальной части очень опасен. За последствия не отвечает. Как будто из тюрьмы он, по меньшей мере, только что. Впрочем, так оно и было – дома Серов ещё не был, не был пятнадцать суток и Никулькову, жену, естественно, эти пятнадцать суток не видел. Так что сами понимаете, уважаемая! Женщина смеялась, руку не убирала. «Да что ты все трандишь – «уважаемая! уважаемая!» Галя я. Просто Галя. «Уважаемая!» Ха-ха-ха!» Рука скользнула на грудь. Потом на живот. Э, нет, уважаемая! Серов сел. Говорил и махался в темноте руками. Доказывал кому-то. Это ведь ошибка, женская ошибка, заблуждение, Что Все Мужики Такие. Все! Жестокое заблуждение! Мол, помани его, покажи ему – и он готов! Всегда готов! Как кобелишка побежит! Хвост крендельком! Неправда! Не все такие! (Уж он, Серов, во всяком случае, точно не такой!) Женщина отодвинулась. Голос её стал отчуждённым. «Да ладно тебе! Разошёлся!.. Не остановишь… Старая я для тебя – вот и всё мое заблуждение». Серов тут же начал заверять её, что нет, не старая она, а всё дело в нём, в Серове, не может он – просто вот так! «Ладно, успокойся. Ложись и спи… Никто тебя не тронет. Только вот что я тебе скажу, дружок. Зря ты с женой так носишься. Недостойна она тебя. Ни разу не пришла к тюрьме. Сам ведь пьяный говорил, что ни одна собака… В том числе и она… А кто же должен поддержать в беде, как не жена?.. Да и на собрании – где она была? Видел ты её?.. Ну вот видишь… А ты с ней, как с писаной торбой…» Серов молчал. Лежал на спине. Не верилось, что у него такая жена. Да и вообще – как дома-то он теперь будет? У Никульковых? В каком качестве?.. Грудь сжала тоска. Повернулся к женщине. Но только гладил, сжимал её рабочую руку. Гладил и потихоньку сжимал. Точно хотел внушить ей, руке, что не всё так просто, однозначно, что… «Не переживай, Серёжа, не переживай, дружок. Всё уладится. Поверь! Утро вечера, как говорится. Постарайся уснуть. А завтра по-другому всё будет». Эх-х! Почему дома-то его никто так не жалеет? Его, подлеца? Вот как эта женщина? Почему? Глаза защипало от слёз. Эх-х! Отвернулся к стене, зажался. Рука женщины опять гладила его голову. Не думай об этом, Серёжа. Не думай. Не ты первый, не ты последний. Друзья-подлецы, жены-стервы. Не думай. Перемелется. Поверь. Спи, дружочек, спи…
На рассвете Серов быстро натягивал на себя одежду. Женщины в избушке не было. В низкое оконце заступил похмельный серый свет. Одежда не успела просохнуть, была волглой, жёваной, но чистой. В застиранных, напитанных водой полах пальто карманы стали глубоки, обширны. Быстро запускал туда свои вещи, хватая их со стола. Паспорт, военный билет, записную книжку, рубля три денег – двумя бумажками и мелочью. С документами произошло так: в день пьянки в общежитии и всего, что потом случилось, Серову возвратили документы в отделе кадров института, куда по требованию он их сдавал. И были они там для проверки. Для проверки их подлинности. Раза два в году такую проверку проводила сама кадровичка. Задастая, величественная матрона. С косой, уложенной на голове в виде змеюшника. При матроне в это время всегда находился безликий, как моль, куратор из КГБ. Запершись с ней на целый день в кабинете отдела кадров. Можно только представить, что они там за железной дверью друг у дружки проверяли. Побывали документы с Серовым и в тюрьме. Только в другой, понятно, камере. И вот теперь они у него, в кармане. И это почему-то здорово успокаивало. На другом конце стола увидел записку. Поднёс к свету окошка. Каллиграфическим женским почерком в ней было написано: «Серёжа, дружочек! Если проснёшься, не уходи. Обязательно дождись меня. Я пошла в посёлок: принесу еду и бутылку красного. Как знала, припрятала после дня рождения. Как раз для тебя. Схожу быстро. Дождись, прошу тебя! Галя». У Серова перехватило горло. Серов затосковал. Опять до слёз, до сердечной боли. Стало жалко и себя, пьянчужку несчастного, и эту тоскующую по мужской ласке женщину… Но остаться и вновь увидеть её жалеющие, всё понимающие глаза… Нет, на это нервов просто не хватило бы. Своей авторучкой на оборотной стороне записки быстро написал: «Галя! Дорогая! Прости меня за всё. Прости. Сколько жить буду – столько буду помнить тебя. Прости. Прощай. Сергей». Бумажку положил на стол и ринулся из будки.
Предзимнее свердловское небо походило на яму. На тёмный провал. Словно шёлковыми рассыпчатыми шалями, укутано было инеем кочковатое болото. По другую сторону от железнодорожной насыпи – от пустого поля с одичалыми пнями – упячивался лес… Серов уходил по железной однопутке, как казалось ему, к городу. По принципу: телега дорогу покажет. Где-то в той стороне за лесом должен быть Студенческий городок. А там – уже автобусы, трамваи. Накатывала и трясла дрожь. Похмельная трясучка. Всю одежду тащил, будто чужие тяжёлые спрелые шкуры. Ничего. Высохнет. Высохнет на теле. Поглубже, вроде котелка, насаживал шляпчонку. Оборачивался всё время назад, на будку путевой обходчицы… В полном одиночестве в округе прилепились к избушке две сосны… Плешивые, как гнезда… И одинокие эти две сосёнки… почему-то больше всего скребли сейчас душу…
…Декан Нечволодов смотрел на Серова. Поверх неряшливых свисших очков. На кончике мокрого носа. Сильно поредевшие волосы на голове напоминали побитый гребень. Достал платок. Сморкнулся. Не снимая очков. Дужки встали дыбом, очки чуть не упали. Однако подхватил. Поправил. Чего же вы от меня хотите, молодой человек? Документы! – заорал Серов. – Справку, что я закончил шесть семестров! – А это уж к секретарю, уважаемый. Только к секретарю. Опять смотрел поверх очков. С побитой волосяной своей гребенкой. Серов пошёл. «Счастливого пути, молодой человек!» – успел напутствовать Нечволодов.
30. «Брак зарегистрирован: какого чёрта!»
…Серов ковырял ключом, не понимая в чём дело. Парадное было закрыто. Изнутри на засов… Та-ак. Понятно. Его ждут. Всем семейством. Наверняка в кухне. Ладно. Пошёл двором. Точно – ристалище было подготовлено. Светилось двумя окнами. Ладно. Отлично.
Едва вошёл – его встретил вой. А-а! Вот он! Яви-ился! «Добрый вечер», говорит! Бодр и весел! Как всегда-а! Пальто вешает! Как ни в чём не бывало! Орали все. Размахивали руками. Одна Никулькова держала надутый нейтралитет. Как всегда. Обидели девочку. Обидели большую лялю… И с тоской Серов понял… что уже втянут в свару, в великую драку. И правых в ней, в драке этой, нет. Есть только злоба у всех и ненависть. И каждый уже стоит Со Своим Тортом. И каждый только в нетерпении ждёт (я! я! дайте мне! мне!), чтобы вмазать им в лицо ближнего…
И пошли эти торты в рожу. И полетели. «Прощелыга! Оборванец! Где ты был до нас! С чем ты пришёл к нам! (Тётка Евгении. С глазами как палки. Как чёрные выкидывающиеся турникеты.) Где тебя подобрали!» – «Но! но! уважаемая! (Серов. Всю жизнь защищающийся абитуриент. В очередной раз не сдавший экзамена.) Брак зарегистрирован – какого чёрта!» – «Ха! ха! ха! «Брак зарегистрирован – какого чёрта!» Да какой ты муж! Какой?! А?!» (И это кричала так называемая тёща. Лжетёща! Которая сама всю жизнь была бездетна! Выхолощена! Как лошадиное копыто! В неё же можно вбивать гвозди!) – «Да он же сикун, – вдруг встряла Нюрка. Ничтожнейшая Нюрка. Приживалка. – Сикун. Хихихихихихихи! В Новый год обоссал мешок картошки! Забыли? Сикун! Хихихихихихихихихихихи!» Все разом замолчали. Заткнулись. Кухню тут же высветило другим светом. Застигнутый врасплох, Серов искал, не мог найти слов. Вертел рукой в воздухе. Шагнул к порогу. Кинул на тумбочку ключи. Вышел, закрыл за собой дверь. Мелькнул двором в свете окон. «Вернись, Сергей! – не выдержала, кинулась к форточке Никулькова. – Пальто надень! Серёжа!» «Да пусть бежит! Пусть! Быстрей проветрится! Быстрей причешет!» Глаза лжетёщи были глазами бордового металлурга, давшего хорошую плавку. «Пу-усть!» Нюрка подпевала. Проходимец! Шаромыжник! Сикун!
В одном пиджаке, скукоживаясь как американский безработный, Серов приплясывал, сёк дубаря на пронизывающем ноябрьском ветру. От Никульковых был он далеко, был в центре, у лучезарного стекла кафе на Броде. Совсем рядом, за столиками, ели, пили, размахивали руками, веселились люди. Зализанный певец на низкой сцене выгибался с микрофоном как патока, как медогонка. Саксофонисты стоящие в ряд, в своих проигрышах – ревели. Как стоеросовые гусаки. И вновь певец раскачивался и изгибался… Серов утром опохмелился. В обед немного поел. От трех рублей осталось копеек тридцать-сорок. Зайти с такими деньгами в тёплый рай за стеклом… и думать даже было нечего. Двинулся прочь. Не оборачивался. Затягивался пиджачишкой. Податься было некуда. Ночевать было негде. Общежитие на Малышева отпадало. Изначально. После всего случившегося увидеть снова подлые все рожи – полный перебор. К Офицеру с его Женой тоже не тянуло. И получалось, что во всем большом городе… идти Серову было не к кому. Где-то на краю сознания появлялась Галина, Галя, избушка её в лесу на Шарташе… Но отгонял сразу это. О железнодорожном вокзале, где можно было перекантоваться до утра, почему-то не вспомнил. Так и брёл неизвестно куда и зачем…
Неожиданно вышел к Оперному театру… Как преступник на место преступления… Возле театра не было ни души. Круглое здание сияло в ноябрьской ночи – как подожжённый, в свечах, торт… Серов отвернулся. Ничего не видел от слёз. Стал переходить на противоположную сторону улицы. Как пьяный, отмахивался от пролетающих, сигналящих машин. Сморкался, вытирал нос, глаза. Пришёл в себя в темноте другой улицы, боковой. Словно на ощупь двинулся в глубь её. Возле одиноких фонарей сильно мотало ветром голые деревья. Серов шёл прямо по живым чёрным ветвям, мечущимся на асфальте. Неожиданно вспомнил, что именно на этой улице живёт Сапарова. Светка! Был всего один раз, в Новый год, почти четыре года назад, а вспомнил. Точно. Сталинский дом. На втором этаже. Серов шёл, озирался. Нырял в темноту и вновь топтал живые мечущиеся ветви. Но удобно ли будет? Брат у неё вроде там. Или дядя какой-то. Родителей – точно нет. Умерли. Но брат – или дядя? Серов забыл про все оперные театры. Серов уже бежал. Бежал точно по небу. Точно по веткам на небе!..
Едва очутился в подъезде – освещённом, с кафельным полом на площадке – в нос влез сладкий запах чьего-то перегара. Скорее даже – длительного запоя… Чёрт! Ещё подумает, что от меня. И запах этот стоял и на втором этаже. Ч-чёрт! Однако Серов решительно надавил кнопку звонка… Первыми словами Сапаровой были – Серёжа! что с тобой! ты весь дрожишь! Светка явила себя в халате. Всегдашние выпуклые, вздёрнутые глаза вздёрнулись ещё выше, ещё дальше к вискам. Как какие-то китайские парусные сампаны. Серов смутился. (Однако встреча.) Так ведь холодно. Холодно на улице, Света. Но где! где твое пальто! Серёжа! Неумелая эта, смурная экзальтация уже злила. Слушай, Сапарова. Во-первых – «здравствуй»! Во-вторых – из дома я ушёл. Понятно? Но почему без пальто! Без шляпы! Серёжа!.. «Ты одна? – в упор спросил Серов. – Можно войти?» – «Ой, прости, Серёжа! Сейчас!» Смурной театр продолжался. Сапарова выглянула на площадку. Далеко. Предварительно обернув себя пристойными попугаями. Будто бы любовник он, на свидание проник, будто бы – кабальеро. Повела глазищами туда-сюда. Ни-ко-го! Только после этого впустила Серова.
Сковыривая в большой прихожей обувь – всё же к татарам пришел – Серов чувствовал, что должен Объяснить. Объяснить подробно. Что от него этого ждут. Ждут, по-прежнему вздёргивая глаза. Но только в нескольких словах рассказал, что произошло. У Никульковых, разумеется. Об институте и обо всем предшествующем институту Сапарова знала. Как-никак однокашники. Теперь уже бывшие, правда. И видя, как восточные глаза совсем уж востроносо закачались, закачались как лодки, как всё те же сампаны – подвёл жёсткую черту: больше он к Никульковым – ни ногой! Но как же Евгения?! Жена твоя?! Серёжа! А она с ними осталась. Она всегда остаётся с ними. И будет оставаться с ними. Такой уж она человек… В общем, хватит об этом. А сейчас мне просто некуда идти, Света. Негде переночевать. Понимаешь? Можно к тебе? Утром уйду? Да о чём ты говоришь, Серёжа! о чём ты говоришь! За Сапаровой Серов двинулся с большим облегчением. Шёл по приятной ковровой дорожке красного цвета. А в большой комнате, где был оставлен, промерзшие ноги тепло вязнули уже в ковре бухарском. Вообще ковры в комнате преобладали. Висели на стенах вдоль и поперёк. Ну что ж, под каждой крышей свои мыши. Серов походил по комнате, узнавая большой полированный стол, за которым четыре года назад шумела большая новогодняя компания. Громаднейший, как Дом Советов, приёмник с проигрывателем, из которого тогда же, в Новый год – будто горячий нагой копёр до утра бил. А все пластинки джазовые… (Серов мгновенно вспомнил) принадлежали брату Сапаровой, и брат этот в молодости, надо думать, был отчаянным стилягой… На разложенном диване, покрытом, понятно, тоже ковром, возле белой подушки валялся раскрытый журнал «Юность». (Бросила, видимо, когда позвонил.) Серов взял журнал. Молодежная повесть. Автор на фотографии склонила голову в полупрофиль. Недвижные глаза залиты надоевшим, обречённо тупеющим оловом. Такие глаза бывают у греческих скульптур. Год или два назад написала повесть о консерватории. Которую, по-видимому, недавно сама и окончила. О консерваторской жизни. О смурных преподавателях-профессорах, о не менее смурных студентах. Легенды, байки, хохмы. Жаргонные слова. Написала довольно ловко. Попала этой повестью, как выражались её однокашники – В Жилу. И вот теперь новая повесть. Не упускает с оловянными глазами свой шанс. Не вникая особо – Серов полистал… Вспомнилось почему-то свое, далёкое теперь уже, детское сладостное чтение. Чтение полнейшего дилетанта. Безгранично доверчивого к печатному листу. Так же было и в юности. Даже в первые годы в институте так читал. Прежде чем не ступил на «стезю» – не стал сам заниматься литературой, распроклятым этим ремеслом… Счастливая, подумалось про Светку. Непорочная, неиспорченная… Положил обратно журнал раскрытыми страницами вниз. Как тот был оставлен. Ты читал? читал? – спрашивала Светка, накрывая на стол. Уже в платье, с подведёнными, ещё более вздёрнутыми глазами. Правда интересно? Правда прелесть? Серов смотрел на её глаза, всё больше удивляясь: глаза имели теперь много общего с парой хвостатых цинковых рыб!.. Вот именно, что прелесть…
На тушёное мясо с рожками и (главное) с солёными огурцами, нарезанными мелконько – Серов накинулся. Наверняка татарское какое-нибудь блюдо. Сапарова сидела напротив. Не ела, потому что уже отужинала. На локти поставленные руки вяло отгоняли от лица слова, вроде жёлтых, всё знающих пчёл. О выпивке – вине или водке к мясу – не говорилось ни слова. Серов преувеличенно был занят едой. Поглядывал на стену. Где висела фотография с новоиспечённой парочкой молодожёнов. Жених, в общем-то, был жалок – чёрные, зауженные книзу брючки по моде 50-60х годов, такой же куцый пиджачок. На тонкой голодной шейке – селёдочный галстук. Глаза испуганно выпучены. Этакий стиляжонок с Брода, затащенный в милицию. (Пардон! в чём дело! По какому праву!) Зато невесту рядом в белом – сравнить хотелось с усадьбой. С большим сложным хозяйством под снегом. Которое по весне ох как не просто будет освоить тощему. Фотография увековечила свадьбу брата Сапаровой. Единственного. Татарина. Женившегося на русской девушке. Снимались на крыльце ЗАГСа. Сразу после регистрации. Она была его сокурсницей, в институте, поясняла Сапарова. И он её очень любил… Умерла через два года. Погибла в турпоходе. Нелепо. Утонула в горной реке. Почти у него на глазах. Где-то в Сибири. Не смогли спасти… Серов перестал есть. Прости. Я не знал. Но… но ведь ему сейчас лет сорок? Как же так? Мол, почему до сих пор висит? Фотография на стене? Потому что так и не женился больше. Не может забыть. Светка повернулась к своей погибшей снохе, которую, наверное, вряд ли помнила даже (живой). Однако смотрела сейчас на неё с большой, что называется, любовью. Серов же старался больше не глядеть на обыкновенную в общем-то русскую девушку рядом с тощим татарином-стилягой…
Потушив свет, ещё долго говорили. Она, лежа на разложенной своей тахте, он у окна – на какой-то оттоманке. Говорили, собственно, об одном и том же – о дальнейшем Серова. О его будущем. В какую сторону ему теперь надо двигать… Свет от редких машин напоминал пустынные пылающие дороги…
Утром Серов был приглашён завтракать в кухню. Вроде как уже по-семейному. Но и здесь даже висел ковёр! Серов уставился на него, как на мечеть причудливую. По меньшей мере… Всё-таки с коврами, наверное, у них перебор. Явный перебор. С другой стороны – чего же тут? – всё те же мыши под каждой крышей. За чаем выяснилось, что брат Сапаровой, Равиль Ахтямович Сапаров, находится сейчас в Асбесте, в командировке. Вернётся завтра. Ближе к вечеру. Вот с ним можно и поговорить о работе… Та-ак. Получалось, что Серову можно (нужно?) остаться здесь ещё на эти два дня. Что ему дается шанс. И в смысле жилья, а дальше и возможной работы… Спасибо, Света, спасибо. Как говорится, не забудется тебе. Спасибо. А сегодня пока выписка, то-сё? Как считаешь? Паспортный стол, военкомат? Торопишься ты, Серёжа, торопишься. Обожди, не суетись. С паузами отпивая, Светка держала чашку у рта. Щёки Светки были как у жены – в спокойном, гордом утреннем румянце. В самодовольном, в самодостаточном. Не торопись, Серёжа…
День пролетел быстро. Серов бегал выписываться в паспортный стол, потом мчался на трамвае в военкомат сниматься с учета. Обедал у Сапаровых. Со Светкой. Потом договорились встретиться после её лекций (уже не его) – в центре, у главпочтамта, вечером.
Перед сеансом на 19.30 они оказались на Исетском мосту. Гулял осторожно у земли первый близорукий снег. Закат по речонке провалился, обмелел, зачах. Серов курил, потихоньку мёрз. По-прежнему в одном пиджачке. Правда, в лыжной, выданной Светкой шапчонке. Как Петрушка в полосатом чулке. Благодетельница трудно говорила. Об одном и том же:
– …Как же так, Серёжа? Ты хочешь уехать… Ты уедешь… И что же – даже не попрощаешься с женой? С Евгенией?.. Как так можно? Разве так поступают? Любишь ли ты её вообще, Серёжа?..
Серов молчал. Перекат дрожал, как серый совокупляющийся кролик…
– Не знаю, Света… Может, и нет… Не в тот огород я забрёл… Не в свои сани сел… Не знаю… Да и хватит об этом. Пошли. Пора.
Согрелся только в зрительном зале. Сапарова то клала ручку, то убирала с его руки. Отворачивалась, вынимала платок. Не надо, Света. Ни к чему. Зал хохотал. Над Мироновым-Папановым-Никулиным. Не надо, Света. Прошу тебя… Мы любим не того, кого надо… Ну! К Сапаровой заглядывали весёлые умоляющие глаза собачонки… Ну же!..
К ужину на этот раз было выставлено вино. Видимо, обдуманно. Притом дорогое, марочное. Портвейн. 19… какого-то там года. Уже через пять минут Светка сдержанно пылала. Посмеивалась. Пьяненькая. Вся как затаившаяся пока что плавка. Серов зловеще почему-то отцеживал. Однако ел за двоих. Опять мясо с солеными огурцами. Азу по-татарски называется. А потом ещё уч-почмак. Что-то вроде небольших кулебяшек, начиненных рубленым мясом и картошкой. С перчиком, с лавровым листом. Готовить Светка умела. Это уж точно. Не то, что некоторые.
Тяжёлый, раздутый как удав – смотрел телевизор. Певичка в остроплечем пиджачке, в брючонках по колено ходила и копытно-резко втыкала в пол ноги в туфлях на высоком каблуке. Точно стремилась скинуть с себя к чёртовой матери свой вихлястый задок. Слова песни были такие: «Осстановиссься, сеньора! осстановиссься, сеньо-ор!..» Светка стелила постели. Чтобы переночевать Серову в комнате брата её, Равиля – об этом почему-то не возникало даже речи. Ни вчера, ни сегодня. Белые длинные ноги склоняющейся Светки стояли раздато. Походили на… виселицу. С сокрытой где-то вверху петлёй… Ч-чёрт!.. Притом девушка задушевно пела. Мурлыкала для себя – счастливой… Странно, конечно. Друзья ведь. Просто друзья. Всё же было сказано. Всё расставлено по местам. Какого же чёрта тогда это всё?..
После ванной вышла в каком-то слюдяном стрекозином пеньюаре. Под которым, наверняка, ничего не было. Сухие волосы девушка уложила на голове в виде грелки. Вынула шпильки и резко растряхнула всё. Рассыпала по всей спине. Начала проглаживать щёткой. Серову было предложено пройти в ванную. Притом в повелительной форме. Иди, Серёжа. Там всё приготовлено. У Серова один глаз полез вверх. Серов пошёл. Получалось, что всё уже по-семейному. Натуральная семейка. Муж и жена… Ч-чёрт!
В ванной смотрел на себя. Голого. Мокрого. В зеркале. Членок свисал, как якорь. Как мягкий якорек. Которым, пожалуй, и не зацепиться ни за что. Нет, невозможно всё это. Без любви? Нет. Быстро вытирался. Прыгал, вдевался в трусы. Вторая ведь за эти два дня. Вторая! Как сговорились! Но – нет. Невозможно. Нельзя. Девчонка к тому же ещё, наверное…
…Сапарова склонилась над ним в темноте – с глазами, как угли. Чёртов свой пеньюар – распахнув. Как на блюде поданы были Серову голые груди… Неуверенно он взял их обеими руками. Тяжестью своей груди приравнивались к булыгам. К весомым булыгам. Это удивляло. Тощая ведь… Нет, Света. Прости. Не могу я так. Прости… Светка отпрянула. Стояла у окна, встречая свет машин. В просвечиваемом пеньюаре своем, склонённая – как стрекоза, пришпиленная через затылок. Серов не знал, что делать. Ну, Свет. Не надо. Брось…
С братом Сапаровой, Равилем Ахтямовичем, всё обсудили, уладили на другой день быстро и просто. На удивление полноватый, невысокий мужичок (ничего общего с фотографией на стене), сняв пиджак, провалился в кресло и молча, не прерывая, слушал Серова. (Понимаете, нужно начать новую жизнь. На новом месте. В другом городе. Понимаете?) Потом с минуту думал. Лысина его была как тюряга. Как добровольная пристроенная клетка клерка. Да, именно так. Предложил Серову город Н-ск. Находящийся в Зауралье. Не Свердловск, конечно, но городок областной. С какой-никакой промышленностью. И, самое главное, там живёт его друг. Верный друг. Однокашник. Вместе окончили институт. Теперь главный инженер на одном из заводов. Он всё и устроит. И с жильём (общежитие, понятно), и с работой. Тоже понятно – сперва учеником. Специальности, как я понимаю, нет пока никакой. Так как, молодой человек? Подойдёт? Серов тут же согласился.
После обеда втроем, обеда обильного, с вином и даже с водкой, Равиль Ахтямович опять откинулся в кресло. Беспомощный, неподвижный – был придавлен животом своим, будто камнем. Помытая голова его с павшим набок зачёсом была вроде сдавшегося флага. Однако пока Светка стелила ему в другой комнате, пытался Выяснить у Серова. Причём бровь изгибал мечом. На манер самурая. А?! Герой?! Да какой разговор, Равиль Ахтямович! О чём вы говорите! Мы же просто друзья! Давнишние друзья! Неужели не видите?! Серов был искренен. Ну, вот как эта скатёрка на столе! Тогда Серову начал покачиваться указательный, с подсохшей кожицей пальчик: смотри-и, герой! Уводимый смеющейся Светкой, Сапаров хмуро говорил, что денег – даст. Взаймы! И на дорогу, и на первое время. И письмо напишет. Другу. И вообще… Но – смотрите у меня! Да какой разговор, Ахтямыч! По уходу сестры и брата Серов упал к столу, тут же прихлопнул себя рюмкой водки. Как затычкой. Будто забзд… от радости бочонок с пивом.
Поздно вечером Серов широко шагал по перрону вдоль состава до нужного вагона. Вагона номер четыре. Громадный серый плащ, плащ с чужого плеча, плыл у самой земли. Напоминал слегка поддутый, скособоченный стратостат с болтающейся оснасткой. Сапарова с продуктами в большой сумке – с горячим и холодным – еле поспевала за ним. У четвёртого вагона, поставив сумку на асфальт… она молча подняла к нему лицо. Закрыла глаза. Рот её с короткой верхней губой (губкой) походил на какое-то призывное зевцо. И в него, раскрытое, влажное, он и погрузился искренне, весь без остатка. Секунд десять, наверное, прошло. Оторвал, наконец, себя от губ девушки. Прости, Света. Прости, дорогая. «Прощай» сказать не поворачивался язык. Сказал «до свидания». Сказал, что напишет. С сумкой вскочил на подножку тронувшегося вагона. Содрал клоунский чулок с головы. Она шла за подножкой, плакала и совала ему листок бумаги, сложенный вдвое. Своё письмо. Он схватил его. Сунул в карман. Прости, Света, за всё прости, только и мог он бормотать, готовый сам зареветь… Насупленная пожилая кондукторша вознесла над ним флажок. Вознесла в тяжёлом кулаке. Точно хотела треснуть его этим кулаком с флажком по башке…
Глубокой ночью под спаренный грохот колёс, на верхней полке, душонка сжималась от неведомого впереди, от неизвестного. Огненный сыпался горох встречных пассажирских. И снова в темноте наматывал грохот. Как дышло. Как многокопытное душное дышло.
31. Тихий стих Дылдова, или С пятого на десятое
Серов говорил: «Да что ты нашёл у него? Что?! Ребусы, шарады! Завуалирует остренькое этакой фигушкой в кармане, да так, что сам уже потом не найдёт его – и радуется: а-а! обманул! всё вам сказал! а-а! а вы и не заметили! Прошло-о! – И руки потирает, довольненький. – Д-диссидент!»
Дылдов не стал на сей раз спорить. (Ну что, собственно, взъелся на этого прозаика? Вроде нормальный. Очень гордый. Похожий на философного попугая.) Друзья сидели и курили в Тверской аллее, прямо напротив дылдовского дома, его, как бинокль, круглых двух окон с краю. За чугунной огородкой вниз к Арбату проскальзывали машины. Листья лип свисали по-августовски устало – будто собачьи уши. Появился в аллее старикан. В обычных брюках стального цвета, но в кедах. Эдакий полуспортсмен-ходун. Ходок. Скорым пёхом от инфаркта. Довольно шустро прошёл мимо, двигая локтями. На сильно вытянутой шее голова смахивала на ковш экскаватора. В оскаленных зубьях, казалось, посвистывал ветер. Вот, сразу вскинулся Дылдов – сюжет. Вот, что называется – полцарства за коня! Да какой полцарства – всё царство! Всё. Без остатка. А? Неужели и мы будем так жаждать? (Жить! Жить! Жить!)… Не верится. Дылдов посмотрел на сигарету меж своих пальцев. Меж пальцев своей руки. Сигарета струила вверх ядовито. Как стерва. Да-а.
Когда шли к переходу, чтобы перейти на дылдовскую сторону – опять увидели этого старика. Спортсмен-ходун тяжело дышал, пригнувшись на скамейке. С тоской смотрел на приближающихся парней. Катал уже во рту какую-то таблетку. И столько тоски было в белесо просвеченных его глазах, столько безнадёги – что парням стало не по себе. «Может, «скорую» вам?» – спросил Серов. Старик махнул рукой. Ни к чему. Отойду. (Куда? В мир иной?) Другая рука свисала с колена. Как чужая, не старика. Была уже какой-то вздуто-бальзамированной – белой, без единой жилки, сосудика… Парни пошли. Парни оборачивались.
На дылдовской стороне из новой кафешки шмаляла громко-музыка. Музыка-на-целый-день. Как приманка. Как липучка для мух. Гологоловый заведующий в дверях соответственно загнул себя во всё организующий скрипичный ключ: заходите! всегда рады! липучка свежая! не отдерёшь! Дылдову и Серову нужно было дальше, поэтому прошли мимо. В досаде гологоловый разом перекинул руки-ноги. Сделал ключ левосторонним. Да, Серёжа, поздно, неизвестно о ком и к чему сказал Дылдов. Всё порой просто поздно. Мимо проколыхался автобус. Гуси висели, как всегда, густо. Как в коптильном цеху на колесах. Да. Всё поздно. Дылдов шёл. Дылдов не отпускал от себя тихий стих.
В забегаловке, куда должен был придти и Зенов (договаривались накануне), у потолка мерцал телевизор. По новой моде. Как на аэровокзалах теперь стало. Мельтешили с мячиком по полю футболисты в майках. Одни – как черти полосатые. Другие однотонные, но с номерами-клеймами на спинах. Все головы пивников были повернуты в одну сторону. Точно из единого строя. Дылдов отпил из кружки. «Сейчас ведь как? – зайдёшь в квартиру к кому-нибудь – и что видишь прежде всего? «Ласковый» на тебя смотрит. Телевизор. Этакий большеголовый ласковый олигофрен. И все на тебя вместе с ним смотрят. Приглашают поучаствовать. Так сказать, в просмотре. И все безмерно счастливы. Когда же книги читать? Литературу? Некогда. Да и незачем сейчас. Нужды просто нет. Ящики пустые эти на головы надеты. Давно уже. Все в ласковых этих ходят. На ночь – когда спать – только и снимают. Чтобы с утра снова быстренько надеть. Сдёрни их с голов у них, убери, не дай бог, разбей – сразу бунт будет. Грандиозный бунт. Революция. А ты говоришь «литература». Брось!» На экранчике весь бараний гурт трясся огузьем к одним воротам. Казалось – гол неминуем. Но – нет: повернули, затряслись в противоположную сторону. Пивники перевели дух, торопливо всасываясь в пиво, ни на миг не отпуская от себя экран. После матча звук вверху вроде бы куда-то ушёл. Телевизор стал совсем одинок. На пальцах как-то всем, на пальцах… Жалобно… Чуть не плача…
Зенов не появлялся. Вместо Зенова в забегаловку вошла девица лет двадцати пяти. В джинсах. Но как-то очень уж беременная. На последнем, видимо, месяце. Однако вошла, что называется, пнув дверь ногой. В забегаловке сразу повис и замер скандал. Ожидалось буйное выволакивание за дверь какого-нибудь мужа или хахаля… Ничуть не бывало! Деваха сама швырнула потную трёшку на стойку. От бармена к ней в руку тут же примчалась высоченная немецкая кружка, на литр, наверное, полная пенного пива. Деваха стала жадно заливать его в себя. Как какой-то зверский Татарский пролив… как какое-то зверское Самурайское море! Обнажала, оскаливала зубы! Вот так будущая мамаша! Вот так на последнем месяце! Серов и Дылдов своим глазам не верили. А беременная вливала в себя уже вторую. Вторую кружку! Казалось, ещё полнее первой! Ещё один пролив. Уже неизвестно какой. На пузе, на майке её искажался портрет какого-то идола-патлача. Как будто патлач на свет с удивлением нарождался. Вылезал из её живота. Уже взрослый!.. Кружку третью… деваха бармену угнала обратно, просалютовав вверху указательным пальцем: хорош! На стул – как-то опала. Точно на воду большая чайка-каравелла. Пощёлкав зажигалкой, закурила. Всколыхнув себя, понесла живот на выход, далеко вперед выпячивая его, отстраняя. Так несли бы, наверное, ванну. Полную колыхающейся воды. В данном случае – пива! Где шустро соревновалась бы парочка неродившихся ещё головастиков! Да-а. Даже у Дылдова слов не находилось.
Зенов так и не пришёл. На улице пережидали проплывающий мимо автобус. Опять всё с теми же коптящимися гусями. Да, всё поздно, Серёжа. Всё в жизни поздно, не отпускал от себя мрачный стих Дылдов. Какая-то дамочка порывалась перебежать дорогу. Ей сигналили, отгоняли. Она нервно отскакивала назад, на поребрик. Серову хотелось схватить её за руку. И держать, держать, встряхивая как девчонку. Дылдов же внимательно смотрел. Переход был без светофора – на милость водителей. Наконец один затормозил, мол – давай, иди… И она, чуть ли не бегом заспешила на противоположную сторону.
Когда тоже перешли дорогу, Дылдов вновь завёл свою шарманку: всё проходит, Серёжа, всё. Он выпил только одну кружку пива. Одну. Был трезв. Однако напоминал тяжёлый, наполненный под завязку бурдюк. Серов вообще не пил. Поэтому Серов вскричал: да что проходит?! что?! чёрт тебя дери! Дылдов грустно посмотрел на друга. Как посмотрел бы, наверное, дед Мазай из лодки с сотней своих зайцев. Которых не знал куда девать. «Знаешь, Сережа, от того, как женщина переходит дорогу, когда ей её уступают машины на правом своем повороте – о ней можно сказать всё. Если женщина начинает торопиться, чуть ли не бежит, стесняется оттого, что задерживает движение – она человек, у неё есть совесть. Когда же, наоборот, идёт, как будто никого нет вокруг – с этакой деланной ленцой, с этаким фирменным заплётом ног – и пять машин ждут, когда она вот так блядски пройдёт, освободит путь – она скотина, самодовольная мразь… Так вот, моя дражайшая – была и есть такая скотина. Весь мир должен замереть и ждать. Надо было видеть картину – Её Говенное Величество Переходит Дорогу! Серов затосковал, у Серова, что называется, заболели зубы. Да брось ты, Лёша, в конце концов! Брось! Забудь ты их, наконец! Выкинь из головы! Что ты прилип к ним? Сколько можно! Что, другой бабы, что ли, не можешь найти? Нормальной бабы? За эти-то годы! Дылдов, винясь, почёсывал голову. Да была тут одна у меня. Здесь уже, в Москве. Пытался я с ней как-то. Придёшь, бывало, а она сразу такую деятельность по дому разовьёт – не подходи: зашибёт ненароком! И пылесос тут, и щётки, и ковры. И ведь знает – зачем пришёл: и бутылка в руке, и цветы. А поди ж ты! Да я, главное, особо и не набивался. Сама всегда звала. А вот характер такой! Будто московскую квартирку-расконфетку её пришел ломать. Как целку. Как Миша-медведь я. Кто-кто в теремочке живет? И – бабах!.. Навечно отчуждённая какая-то, сердитая. Так и перестал к ней ходить. Из лимитчиц тоже была. Но выбилась как-то в москвичку. И когда это было, спросил Серов. Да года три, а может, и четыре уже прошло. И это всё, все твои попытки? Нет. Зачем. Ещё одна была. Волосы чёрные. Но щёки пёстрые от веснушек, как сорочьи яйца… Ну, и что? Что с ней? Да ничего. Любить надо, Серёжа, а любви и не было. Расстались. Дылдов неторопливо шёл, всё пребывая в тихом стихе своем, в грустной мечтательности. Всё проходит, Серёжа. Всё становится поздно. Выбор мужчиной женщины напоминает мне ритуал выбора арбуза. Из целой горы подобных. Сжатие его двумя ладонями, углублённое щёлканье ногтем и вслушивание, дерганье за высохший хвостик… А арбуз всё равно оказывается внутри как репа. Всё ни к чему, Серёжа. Всё проходит. Я однолюб, Серёжа. В этом и беда моя. Как перебила она мне ноги пятнадцать лет назад – так с тех пор и хромаю-падаю, наладиться не могу… Злоба у Серова прошла. Зря всё это, Лёша. Забудь. Пожалей себя. Ни к чему всё это тебе. Жалко было друга до слёз. И свое сразу вспомнилось. Как два года жил без жены в заштатном городишке К.