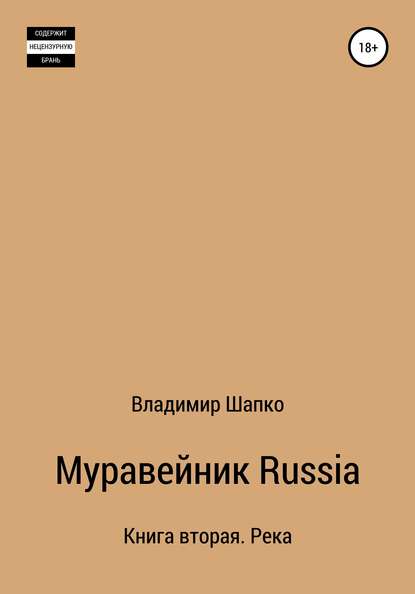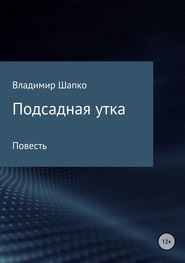По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все те полтора суток, что Пожарская и дочь провели в Москве, воспринимались впоследствии Дылдовым какими-то упавшими с высоты, стеклянными, разбившимися. Собрать из них можно было мало что…
…под низким бесконечным потолком универмага, по матовым стеклянным трубкам ходил, трещал, промелькивал облучающий людей свет… Казалось, шло какое-то планетарное, тайное членовредительство этим светом, какая-то тайная обработка им ничего не подозревающих, волнующихся голов… И Пожарская была в этом свете – крупноглазая. Как инопланетянка…
…только глянула в сторону женщины, схватившей то же платье – и у той глаза в испуге заблудились, стали… Женщина отпустила тряпку… Более того, от всей развески – быстро отошла…
…продавец дамской (!) обуви был в каллиграфических усах. Можно сказать – в усиусах. Однако перед Пожарской нервничал, терялся…
…в одном из залов на помосте шёл показ высокой моды. Вернее бы сказать, Долговязой Моды. Стоя в толпе женщин, Дылдов смотрел на длинных девиц с палочными сочленениями, шастающих по подиуму взад и вперед. И бывшая жена, и дочь Анжела, и все женщины вокруг казались у высокого помоста мелкими, пришибленными, в чём-то жестоко обделёнными. Как будто всех их не пустили в рай…
…о чём бы ни спрашивал Дылдов у дочери (видит бог, спрашивал! не раз!) – она только затаенно улыбалась. Точно находясь под водой и в надёжной клетке. В которой её никаким акулам не достать. Перестал спрашивать…
…целый день шёл дождь… К вечеру тучки обессилелись, их несло над рекой как тряпки. Однако Пожарская и дочь зонтов не закрывали. Шли, внимательно смотрели под ноги. Плечи пиджака Дылдова были сырыми насквозь. Он нёс две связанные коробки и тяжёлый – до земли – универмаговский пакет. Дул в реку ветер. Москва-река была – как продавал товар купец…
…подпершись руками, йоги висели у самого асфальта. И это несмотря на непогоду. Походили на усердную, но почему-то застывшую группу красных крабов… Пожарская фыркала. Придурки. Однако дочь долго оборачивалась. Даже хихикала…
…Пожарская и дочь уезжали рано утром, поэтому ночевал дома. На кухне. На раскладушке…
…почему-то вспоминалась комната в общаге на самой окраине городка, где когда-то он, Дылдов, жил с семьей три года… Виделись за широким её окном серые поля, перелески и уходящие вдаль, в погостовую какую-то пустоту, заваливающиеся кресты телеграфных столбов, окинутых осенним злым вороньём…
…хотел постучать в не совсем прикрытую дверь. Спросить, напомнить… Бывшая жена надевала через голову рубашку… Грудь её была прежней! Колыхалась как в штормовую погоду причалы!..
…фонарил темноту безумными глазами. За соседней дверью базланили старушонка и её дочь… Потом привычно начали драться – полетели стулья, табуретки. Пожарская высунулась. Бигуди её походили на сорганизованный выпас баранов. Это что ещё такое?! Ну-ка прекрати! (Что прекратить? Подглядывать? Драку?) Пошёл усмирять, растаскивать. Чёрт знает что! – раздувала ноздри крупная женщина в короткой нижней рубашке. Ноги ее напоминали могучие пальцы. Захлопнула дверь…
…из вязкого тумана рано утром выныривали и исчезали чёрные зонты. Так промелькивали бы, наверное, летучие мыши… В провисших лужах – замокла дорога…
…крышка багажника такси не закрывалась. Не могла закрыться. Изначально… Шофёр и Пожарская лаялись…
…оказавшись за рулём, шофёр мотал футболом: да-а-а. Будто футбол протыкали и вновь быстро подкачивали. Тронулись, наконец. Тюк на коленях у Дылдова был точно из Средней Азии. Точно с караванного пути. Света белого из-за тюка Дылдов не видел…
После того, как умудрился разложить всё в купе – стал прощаться. Ну, дорогие мои, счастливого вам пути! Пожарская сразу выдавила его в коридор. Вот что, Дылдов. Будь здоров и не кашляй! Не вздумай заявиться к нам опять. Как тогда. Я живу не одна. Да и дочь, сам видишь: студентка, к ней ходят приличные люди. Так что запомни… Давай, дуй. Спасибо за приём. Дылдов потянулся обратно в купе, хотел сказать что-нибудь дочери. Но та сразу надменно отвернулась к окну. Тогда… пошёл. Подул. По проходу вагона.
С перрона не уходил. Точно ждал ещё чего-то. Поезд тронулся. Проводницы с лязгом опускали железные плиты, чтобы скорей позакрываться. Обнималась рядом какая-то семья. Старик, старуха, их взрослые дети, снохи, зятья, внуки. Человек десять-двенадцать толклись среди вещей. Тут же меж ними мелькала собачонка. В волнистой густой шубке. Сверлилась, сверлилась меж ног хозяев. Ее, наконец, заметили, начали подхватывать, подкидывать вверх как ребёнка. Даже целовать. Собачонка совсем зашлась от радости. Дылдов дико смотрел. И собачонка эта… его доконала. Отвернулся. Борясь со слезами, часто моргая, смотрел вверх, в небо, на прыгающую чёрную монетку то ли луны, то ли солнца…
Вечером Серов застал Дылдова лежащим на кровати. Лежащим вытянуто, недвижно. С тем обреченным смирением, с каким принимали раньше старики смерть. То есть поп уже был спешно вызван, уже побывал у отходящего. Соответствующая подготовка, подталкивание к могиле, к смерти уже была – так что чего ещё? Не умереть теперь Дылдову было просто нельзя. Невозможно. Никак… Серов процокал донцами двух портвейнов по столу. Приглашающе. Так вытанцовывает, втыкает стаканы свои под хорошим наездником застоявшийся конь. Никакого движения на кровати. (Со стороны умирающего.) Серов помедлил. Ну, хватит дурака валять! Вставай! Дылдов тут же заговорил. Пытался объяснить. Покойник лепетал: собачонка… собачонка… на перроне… А я… а я… а меня… Серов присел на край кровати. Ну, будет, Лёша, будет! Брось. Забудь. Дылдов сразу сел и заплакал. Запрятывал голову в колени, гулко, как ударяемый барабан, рыдал. А я… а меня… а у меня… Серёжа!..
35. Будем звонки и трезвы! Будем мо-ло-ды!
Серов делал утреннюю зарядку. Косясь на жену, отжимался от пола. Двадцать шесть, двадцать семь. Манька запрыгнула ему на спину, оседлала, закачалась. Двадцать-тридцать! Пятьдеся-ат! Катька, наевшись мороженого, болела ангиной, с замотанным горлом была вся как белый куклёнок, тем не менее, хрипела, тоже отсчитывала. И совершенно точно: двадцать девять! Три-идцать! С нежностью чугунной плиты – припал, наконец, к ворсу паласа. Дышал, раздувался, не вмещая воздух. Девчонки бегали вокруг: упал! упал! мама! упал! Врёте, не упал. Врёте…
Подкидывая колени как олень, бегал вокруг общаги в тощих трениках и тапках. Манька что-то пищала, размахивала ручонками с четырнадцатого этажа. Пока не была удёрнута матерью. Врёте, не упал! Ещё побегаем! Поборемся! Серов прыскал воздухом. С задошливостью пульверизатора, нагнетаемого чёрной грушкой. Врёте! Олень бежал иноходью вдоль свежих мокрых утренних кустов. Высокой размашистой иноходью.
Дома сдирал перед всеми мокрую, почерневшую от пота майку. Ноги в трениках, заправленных узласто в носки, стояли как сабли. Мы ещё посмотрим – кто упал. Посмотрим. Под смех жены унёс глаза дикого необъезженного коняжки. Унёс в ванную. Девчонки скакали за ним до самой двери. За которую, однако, пущены не были.
После завтрака, встав на стул, потянулся, открыл антресоль. Черкаемые тараканами, белые папки лежали плотно, одна на другой, до самого верха антресоли. Начал искать нужную. Евгения ехидничала насчет домашнего питомника серовских тараканов. Лелеемой, оберегаемой зонки тараканчиков Серова. Тем более что сыпались они сейчас из зонки отчаянно, наглядно. Серов не слушал, не обращал внимания. Нашёл, наконец, нужный черновик, нужную папку. Не слезая со стула, долго просматривал некоторые страницы в ней. Девчонки дёргали за ноги. Евгения всё о своем зудела: о роковых, о неистребимых тараканах Серова…
На территории издательства на Воровского Серов и Дылдов остановились перекурить. Будучи уже за решётчатой оградой, напротив четырёхэтажного старинного здания. Серов с тоской посматривал на дубовую дверь, в которую он должен был сейчас войти. Дылдов топтался, не знал, что говорить, чем напутствовать друга.
Вышли из издательства две женщины. Одна невысокая, круглая. С загорелыми лоснящимися ногами, как рояльные балясины. Другая худенькая. С кривоватыми ножками. Раскрытые свои книжицы удерживали на ладонях как Кораны. Читали из них друг дружке трепетно, завывая. Поэтессы, зачем-то сказал Дылдов. И добавил, – оголтелые. Проходя мимо, поэтессы гадили за собой: «симулякр! симулякр! ди-искурс! ди-искурс!» Нахватались, кивал на них Дылдов. Как собачонки блох. Смеялся. Однако Серов, будто пропадающий ангел, всё с тоской смотрел на густые деревья.
Пошёл, наконец, к двери. Пошёл, в общем-то, уже приговорённый. Дылдов еле успел крикнуть «ни пуха». К чёрту!
В конференц-зале издательства, засадившись в кресла, тёпленько сидел коллектив. Коллективчик. Человек в двадцать пять-тридцать. У самой сцены лысинки проглядывали стеснительно, нежно. Попадались, впрочем, и наколоченные волосяные башни женщин.
Сам не зная зачем это делает, ни на кого не глядя… Серов вдруг начал ходить вдоль коллектива. По проходу, сбоку. Туда и обратно. И сел. С краю ряда. Перед чьим-то затылком. Как неизвестный совершенно никому родственник. Лысинки начали недоумённо оборачиваться. «Вам что, молодой человек? Вы к кому?» Вопрос прилетел со сцены. От крупного мужчины за столом. У него на лысине был штрих. Напоминающий укрощённую молнию. «Молодой человек!» Серов застыл, будто наклав в штаны. Вскочила высокая худая женщина: «Это ко мне, Леонид Борисович!» Огибая всех, быстро шла. К Серову как будто шло много беспокойных палок. Серов был вытащен из кресла и выведен за дверь. «Вы что – не видите! – шипели ему в бестолковое ухо. – У нас производственное собрание! Про-из-водственное! (Надо же! Как на заводе! На фабрике!) Ждите! Ждите здесь!» Вновь ушла за дверь со всеми беспокойными палками. «Какая наглость!» Хозяйка палок носила фамилию – Подкуйко.
Рукопись была почти в двадцать листов. Отпечатана в двух экземплярах. Лямки на измахраченных папках давно оторвали. Листы разъезжались, готовы были пасть. Поэтому Серов вынес рукопись – в обхватку. Как разгромленную голубятню. Вот, сказал он Дылдову. И впервые, вздрогнув, Дылдов услышал от друга грубое матерное ругательство. Связанное с чьим-то ртом. Вернее – с чьими-то ртами. Брось, Серёжа, не переживай. Серов не унимался: ё… Подкуйко! Сволочь! Брось, Серёжа. Не надо…
Рукопись была брошена в дылдовской комнате на стол – как есть. Растерзанной. Ну, куда теперь? Понятно куда – в забегаловку. Вышли как из покойницкой. На рукопись больше не взглянув.
36. Забегаловка
Сосиски на тарелке напоминали тощие бежевые пальцы. Серов не мог смотреть на них, сглатывал тошноту. Круг постоянных заунывных графоманов, Лёша. Именно этого журнала. Не мои это слова. Один обиженный критик сказал. Но – точно. И весь секрет. Стая. Связка. Серов глянул на тарелку. Гроздь. Опять сглотнул. Скорей сунулся в кружку с пивом. Нет, я с тобой не согласен, Серёжа. Есть там стоящие. Б-в, например. Дылдов брал сосиски, запускал в рот. У него сосиски были нормального цвета, только что принесёнными из буфета, очень горячими. Дылдов обдувал их во рту. Смахивал от этого на слюнявого стеклодува. Да этот твой Б-в не от мира сего! В нём же все от Средневековья какого-то. От каких-то лат, турниров, копий. Забрал, перьев. Он гарцует в них на механическом, искусно сооруженном им же самим коне. Которым удивляет и королей, и простолюдинов. Притом гарцует гордо. Удерживая мозг свой запросто под мышкой. И как всегда у него: завуалирует остренькое в тексте, да так, что сам потом не найдет – и потирает ручки, и радуется, и хихикает: обманул! Прошло! Прошёл его кукиш в кармане. А кто скажет правду?! Кто?! Серов строго посмотрел на жующего друга. Понятно, что кроме них – никто. Да. Оглядывались по сторонам. В табачном космосе под потолком (однако в Забегаловке не курил никто!) вконец заблудившимся, одуревшим спутником блукал телевизор. На экранчике там долго удалялись слоны. Похожие на старые кургузые мошонки. По закону абсурдистского театра, где-то в углу Забегаловки вдруг последовал короткий, надрывный перелив гитарных стальных струн. Как бы кавалер – даме – после неудачной попытки – прокричал: эх! что же ты делаешь со мной! Дама! С некоторым испугом Серов и Дылдов смотрели, как гитарист в обтягивающем костюме мима поспешно чехлит гитару. Откуда он попал сюда? Прямо с концерта, что ли? Нетронутая кружка пива стоит на столе. Когда отвернулись – вновь ударно замяукал речитатив. Ещё более страстный. Кавалер словно бы задрыгал в нетерпении ногами. Такая музыка бывает, когда наказывают гитару. Когда раскачивают. Когда трясут её за горло грифа. И опять музыкант поспешно зачехлял инструмент. Как рыжего, не вовремя мяукнувшего кота. Зачем он так всё делает?! Дылдов недоумевал. Эх, записать бы! Серов досадливо громоздил на кружку соль. На зализанный мокрый край её. Потом пил, прогонял пиво через всё это сооружение. И приехала она ко мне, Роберт, помнится, с двумя раздутыми, коровьими прямо-таки чемоданами и с дремучим котом-онанистом впридачу. И кот этот, не теряя ни минуты, загнулся и начал трудиться на полу с её шерстяным шарфиком. Вот такой мне случился подарок. Голова человека за столиком наискосок – в Забегаловке над всем преобладала. Величиной, насыщенностью деталей голова была – как целый индустриальный Кузбасс. В этом Серов готов был поклясться. Становилось даже страшновато. С плеч Кузбасса свисал квадратный, вконец истёршийся габардин. Как единственная, дорогая ветошка, оставшаяся от спёкшегося сталинизма, под которой пестрела теперь попугайная рубаха цыгана. Ни френча уже тебе, ни кителя. Знаешь, Роберт: утром смотришь, как сквозь туман на горе пролилось солнце. Как будто отчетливо проступила в горной породе богатая, золотая жила. Красота-а. Кузбасс поднёс кружку ко рту. Точно просто жёлтый фонарик. Отпил. В стороне от горы – земля дымится, лезет за поднимающимся солнцем, а над рекой клубятся туманы. Можешь ты представить, Роберт, такую красоту? Могу, Георгий, могу. Собутыльник Кузбасса, Роберт, напоминал красный обсосанный леденец. Часто прикладывался к кружке. Или зимой: просачивается с тёмного ночного неба пороша. Изморозь. Идёшь к дому, снег скрипит под ногами. Череда фонарей вдоль дороги походит на мукомолов без дела. И всё это ты видишь, всё это ты чувствуешь. Красота-а. Кузбасс, конечно же, был поэтом. Прирождённым поэтом. На умиленную зависть Серова и Дылдова. Может, к счастью, – писательство не задело его? Не зацепило его головы? Ведь бывает, вдруг дом рушится, погребает всех и вся, а один человек стоит посреди рухнувшего как ни в чём не бывало – только пылью отплевывается. Или более долговременное явление: вроде как на болоте, на трясине: все идут, все с шестами, но один за другим проваливаются. И с концами! Только их и видели! А он и под ноги не смотрит, и никакого шеста у него нет, и – аки посуху! Знаешь, Роберт, я ведь опрокинулся с лестницы неожиданно для себя, невероятно. Как будто наступил на арбузную корку. Или арбузное семечко там. Не сопоставимо всё это было, понимаешь?, просто несопоставимо: гигантский вес моего тела – и это ничтожное семечко. Или эта корка. Однако всё произошло именно так. Кузбасс опять поднёс к губам – будто всё тот же жёлтый фонарик. Понимаю, Георгий, понимаю. Тебя подхватывают, к примеру, и начинают качать. Подбрасывать к потолку. Ты летаешь, тебе радостно. И вдруг все разом бросают качать. Отходят в стороны. Они тебя не знают. И ты задницей об пол! Ты на полу! Ты извиваешься от боли! Это – как?! А это, Роберт, называется: семь раз подкинули – шесть раз поймали. Леденец согласился, снова быстро отпил. Знаешь, Георгий, утром встанешь: не мушки, не круги уже, а какая-то синенькая гальваника в глазах дрожит. Слева. Ну тяпнешь. Грамм пятьдесят. Проходит всё, жить можно. Скоро, наверное, крякну. Леденец закусил губу. Точно решил распробовать себя на вкус. Да какое сейчас время?! Какое?! Кукурузных початков?! Всяких матёрых голубей мира?! Серов неожиданно начал заводиться. Выйди на улицу, посмотри! Посмотри на их портреты! Что один был, что теперь другой! Бог шельм метит! Всегда метит! А чего орать-то об этом? Дылдов обиделся. И за кукурузного, и за матерого голубя мира. Разорался тут. Ты что – пьян, что ли, уже? Однако так же неожиданно Серов закаменел, уйдя в себя. Кузбасс почему-то начал поглядывать на него. Точно увидел давно известного ему. Он, Роберт, был из тех – из крикунов. Кузбасс кивал в сторону Серова. Однако нельзя сказать, что это природное у таких. Что все эти люди уже в младенчестве были крикунами. Скорей всего, как раз наоборот: дожидаясь груди матери, такой молодец попискивал трепетно, жалобно, даже моляще. Однако став взрослым, окончив совпартшколу, сообразуясь с моментом, голосок свой развил, стал крикуном отчаянным. Что называется, штатным. Для митингов, для демонстраций. Ну, а там и карьера пошла. Инструктор райкома, референт, пристебай. Вот на такую вот корку, на такое вот ничтожнейшее семечко я и наступил однажды. Кузбасс всё взглядывал на Серова. Глазами набегающе восторженными. Вроде северного сияния. Так смотрят в публичном месте на разоблаченного провокатора. На, как оказалось, стариннейшего стукача. С которым расправиться сейчас просто не время, не место: люди кругом. Да что он, придурок, спутал меня, что ли, с кем?! Не обращай внимания – сейчас забудет. Да-а, Роберт. С умишком он оказался, надо признать, изощрённым. Это уж точно. Не мытьем, так катаньем добрался до меня. Подлец! Серов стал длинношеим как манометр. Он что, Лёша, ненормальный? Не обращай внимания, сказал же, – забудет. Кузбасс и в самом деле забыл. Притом резко. В молодости её ещё потягивали. И, видимо, неплохо. Во всяком случае, – преобладал офицерский состав местного гарнизона. Передавали друг дружке. Так сказать, эстафетом. Ну а потом, когда состарилась – тут и я подвернулся. Кузбасс отхлебнул из кружки. Немка с крутыми бровями казачки. Тех и других в крови – пополам. Осенью повседневное любимое её одеяние – толстый длинный блузон стального цвета. Сшитый как ходячая реклама. С американским безработным внутри. Вот такая красота, Роберт. Иногда, Георгий, вдруг прострелит и начинает ныть мысль: а ведь дело-то к концу идёт. Как и Кузбасс, Красный Леденец говорил только о своем. К концу неизбежному. Ведь скоро и тебе в землю. Красный Леденец опять закусил губу, опять пробовал себя на вкус. Уже чуть не плача. Ну, будет, Роберт, будет! Не надо об этом. Кузбасс сходил и вернулся от стойки с кучей кружек – точно просто с кучей тех же китайских фонариков. Расставлял их на столе. Серов всё поражался кубатуре, объему этого мужика. Волосы на голове чудища были как мускулы. Закаменелые мускулы! Как я и говорил, сама тощая, тонкорукая – троеперстием крестилась очень широко. В церкви подглядел однажды. Будто попадала в себя из помпового ружья. В лоб, в живот. В одно плечо, в другое. Снова троеперстие прилетало в лоб. В живот. В одно плечо. В другое. Вот такая картина. Зарядив кружки водкой, Кузбасс и Леденец дули ерша. Однако создана природой была для любви. Это уж точно. Губки бантиком, груди – прямо воины древнерусские! Даже ягодицы её были в виде сердца. Представляешь? В виде накладного сердца, Роберт.
В Забегаловку быстренько забежал невысокий мужичок в пиджаке. Притом пиджаке очень великом ему. С чекмарями пиджак свис на одну сторону. Как, по меньшей мере, небольшой плацдарм. Быстренько мужичок нашёл ждущих друзей. Двух запухших дружбанов. С руками уже – как с батонами. Те дали ему ещё какие-то деньги. Пиджак-плацдарм побежал. Обратно рулил с букетами кружек как официант. Сдёрнув кепку, из внутреннего кармана пиджака, как дойная коровка, подпитал кружки. И себе, и корешам. С голым черепком, походил на боксерскую грушку. Неунывающую. Для постоянного битья. Ну, вздрогнули! У одного алкаша рука начала ходить точно мотовило. Разливая, расплескивая пиво. Друзья ухватили, помогли. Удерживали, пока алкаш бился зубами о стекло, слакивая зелье как пёс. Наконец, сами запали. Алкаш разглядывал свое утихшее мотовило, которое стало так его подводить. Ну, и как там было, Санёк? Это уже как бы разговор. Да что там говорить, ребята! Атанда! В смысле атас. А так же – полный пропаль! То есть – рви когти! Дылдов и Серов переглянулись: вот так объяснил! Плацдарм, он же Санёк, снова стал подпитывать кружки. Вёл хитренькими глазками вокруг. Везде минеральными источниками булькала водка. Красота! Натуральный Гурзуф! Полное Боржоми! А я утром встану, Георгий, сунусь к зеркалу – старикашка на меня из зеркала смотрит. С закисшими глазами. Ну, под умывальник, конечно, промываю. Крякну скоро. Точно. Леденец, поняв всё окончательно и смирившись – согнулся в прямой угол. Наставился с кружкой. Как маленькое орудие. Кузбасс всё о своем. После того случая жаловаться в партком не стала. Наверное, совесть убила. Кузбасс разглядывал кружку. Как внезапно напухший свой кулак. А вообще-то чуть что – и губы заквасит. Обидчивая была – ужас. На драной козе не подъедешь. Ну ладно – он слесарь. В халате ходит. В замызганном халате. Сантехник. Ладно. Но – постоянно в кепке. Понимаете? – в кепке! И никто деревенщине не объяснит: ты же работаешь в учреждении культуры. В консерватории! Кругом профессора, народные артисты! Но нет – в кепке! У говорящего музыканта рыжая страстная бородёнка была наглядно сублимационна. Роднилась с группкой внедрившихся в подбородок сперматозоидов. Понимаете?! Идёт тебе навстречу – в кепке! По коридору! Понимаете?! И лицо далеко воротит. Как бы презирает. И такой работает в учреждении культуры. В консерватории! Мрак в кепке! Музыкант являл собутыльникам полностью полномочные глаза навыкате. В-вы понимаете?! Кружки и тарелки со столиков убирала низенькая старушонка. Все время спрашивала, убирать, что ли? От вислой белой куртки, будто от своей смелости, старушонка готова была опрокинуться. Убирать, что ли, спрашиваю? Кружки-то? Руки её на столике походили на серых влажных раков. Всю жизнь проживших в бельевой выварке. Убирая, убирай, старая! На-ка вот тебе ещё! То там, то сям старушонке навешивали гирлянды чекмарей. Старушонка заныкивала их в нижний ящик тележки. Дальше продвигалась. С запавшим по-старушечьи ртом – как дятла. Убирать, что ли? А я здесь, в Москве – был в Паракмахерской. Постригли. Вот – Бокс. Через два столика от Серова и Дылдова слышался довольный говорок селянина. Да сейчас стрижки-то такой нет! Ой, не скажи! Если деньги положишь – будет. Всё будет. А так же В Отрезвителе побывал. Лицо селянина было вроде культпросветучилища. Всё чисто, культурно. Скажи, Николай. Да погоди ты! дай досказать! Ну, некоторые призывали там, ну на собрании, в совхозе, мол, давайте не будем разбегаться. Второй селянин был с кожной болезнью витилиго. С лицом, будто подожжённым очень чистым спиртовым пламенем. Дескать, давайте будем воровать вместе. До конца. Но – закрыли всё же. Распустили совхоз. И у свидетельницы была хитрая фамилия – Кравдова. Как это понимать! Кравдова! Мужчина был невысок. В галифишках и сапогах. С легкой фигуркой жокея. Её явно подсунули суду! А сам судья, так вовсе – с бандитской фамилией Конарев! Это как? Доярка там одна. Выступала. Поносила директора совхоза в хвост и в гриву! Жулик! Мошенник! Пьяница! По тебе тюрьма плачет! Куда подевал это?! Куда подевал то?! А он каждый раз – хороший вопрос! Эдак бодро. И начинает отвечать. Ему чуть не в морду плюют, разорвать готовы, а он всё – хороший вопрос! Очень хороший вопрос! В общем, остались мы на бобах. Да что это за Пеня такие?! что это за Пеня?! Музыкант выкатывал глаза. Есть – Пени, понимаете? Пе-ни! Чтоб я не слышал больше этого! «Пеня!» Ну, некоторые обосновались всё же в городе. Я вот в Ступино, а Гриша и вовсе – в Калинине. Любитель парикмахерских и вытрезвителей в Москве – важно подтвердил. Как теперь моднюче говорят – Обустроились. Астафьев, вроде бы, пустил это словцо в народ. Головы Серова и Дылдова поворачивались в разные стороны. Вроде пары лохматых локаторов. Бошки старались Улавливать Жизнь. Эх, записать бы, да где ж тут? Или её постоянное, непререкаемое, не требующее обсуждения, прямо-таки сакраментальное – Это Не Телефонный Разговор! Да господи! Да почему?! Да кто тебя подслушивает, дура?! Или звонок от входной двери – крякнет. Просто крякнет. Вздрогнет вся, переменится лицом. Прямо арестовывать её пришли! Да спокойно, дура! Не про тебя это всё! Не трепещи! Но нет – изображает. Кузбасс вдруг поник головой. Над макушкой Кузбасса, будто бы совсем печальная, зависла гряда облаков. Медленно отодвинул от себя кружку. Брат у меня, старший, Алексей, этот действительно сгинул. В 37-ом пришли, понятно. Осенью. Перерыли всё. Били книги. Библиотеку. Точно выбивали подсолнухи. Длиннополые шинели на всех – как февральские метели. Завьюживали по квартире, завьюживали! Дылдов и Серов онемели. Как дупла. Как скворечники без скворцов. А я вот – всю жизнь гаду усатому. Верой правдой. Кузбасс, как крестьянин, вытирал глаза изнанкой цыганской своей попугайной рубахи. Заголившийся живот походил на ковыльный, занесённый снегом погост. Выпей, выпей, Георгий! Леденец суетился, плескался чекушкой. Выпей! Как опрокидываясь в омут, Кузбасс маханул полкружки пива, сильно сдобренного водкой. Серов и Дылдов тоже поспешно запали в кружки. Нужно было переключение. Срочное переключение. На что-то. На кого-то. Ещё один выскочил! При воспоминании Маленький плацдарм весь передёрнулся. Батоны напряжённо застыли. Этот вовсе – культурист! Как свалка дисков и роликов пред тобой! Вмазал мне – и я уехал. Ничего не помню. Потом очнулся, солнце светит прямо в клаву – как будто ничего и не было. Вот так. Пустые бутылки, правда, в сетке – не забрал: поленился. Ну, я дёру из этого дворика. И больше ни одной бутылки из ящиков не взял. Да ты б его, суку! Батоны замахались кулаками. Хм, суку. Не возьмешь такого бомбилу. Плацдарм, как с краю плацдарма, из нутра его, забулькал себе в кружку. Батоны сразу подобрались. Перед серьезной как бы работой. Последовала очередная гитарная прелюдия. В углу. Как всегда – короткая, страстная. И опять чехлит. С каким-то уже мучающимся, плаксивым лицом. И пиво на столе почти не тронуто. Миму этому будто настолько обрыдло немое его искусство, предопределённая ему кем-то пожизненная немота, что таскал он с собой струнного этого котяру, постоянно выдёргивал его из чехла и эксгибиционистски, на глазах у всех мучил. Эх, записать бы. Смутно чувствовал Серов (да и Дылдов, наверняка) какое-то жестокое родство с этими Мимом. С гитарой его. В растерянности ощущалась общая их предопределенность с Мимом во всем. И предопределенность эта была затиснута, загнана только в тупые углы. Как загоняют в тупые углы бильярдные тупые шары. Чего же тут записывать-то? Права держи, козёл! Права! Двое сошлись меж столиков. Низенький и довольно длинный. В пивных кружках оба – будто в боксёрских перчатках. Права, говорю, козёл! Низенький поднырнул. Присел. Горбылястый сделал левый хук. Вроде хук слепой. Как промахнулся по низенькому. Разошлись. Козёл! Длинный скинул кружки на стол. Приветствуя, Батоны и Плацдарм похлопали его по плечу. Козлы! – выдал им горбылястый. Он, похоже, раздавал всем сёстрам по серьгам. Не доберёшься тут до вас. В чёрном свисшем плаще, какой-то оскаленно-черепной – он походил на пиратский парус без ветра. Заголив железо, затопился в пиво. В телевизоре высунулся индиец в чалме. С усами как с мётлами. Что-то там начал жевать по-английски. Из пива вытащив, Пират обсосал оскаленное железо. Козёл! К индийцу присоседился интервьюер. Всё время лыбящийся. С прической, как с ластой. Что-то спросил. Но получилось – немо. Не забывая лыбиться, цеплял к пиджаку индийца микрофончик. Будто вьюна болотного. Индиец отстранялся от него, с недоумением смотрел себе на грудь. Оба козлы! Пиратский Парус затопил железо в пиво. Но тут же вытащил обратно. Потому что какой-то Козёл смотрел на него и не мог сдержать смеха. Откровенно хихикал. Аж пригибался к столу. Серёжа, прекрати! Слышишь?! Не смотри на него! Дылдов стремился к миру. Дылдов широко улыбался Пирату. От изумления, от наглости Козлов, Пиратский Парус стал вроде сквозного пролета на дороге. Вроде онемевшего просвиста, где об ограничении скорости даже не слышали. Вот эт-то козлы-ы. Ему поспешно набулькали в пиво. Пират железо затопил. Словно бы превратил его в железную плотину в кружке. И плотина эта зазудела: эот ззз ээ-ззз-ыы. Дылдов перевёл дух. Однако откровенно, пьяно вдруг ударила песня. Песня в один голос. Э-ды живёт э моя-а отырада-а в высо-оком терему-у! Вытянув перед собой руки, певец как будто с полуметром ходил. Будто столяр. Или показывал всем размер рыбы. Какую посчастливилось ему вытащить. А вы те-ерем тот д высо-окий д нет ходу нико-му-у! Руки были точны, железны, не меняли размера. А ну прекратите там сейчас же! Закричала буфетчица. Певец с руками направился было к ней, не переставая петь, но его завернули, приглушили, быстро запрятали куда-то. Буфетчица хмурилась. Буфетчица туго была обёрнута фартуком. Белым. Как заворачиваются повара-мужчины или рубщики мяса на рынке. От этого заметно утяжелилась спина, грудь и оголённые по плечи руки. Пивной кран работал от электрического моторчика. Поэтому рука на кране – просто покоилась. Как добрый окорок. С вас два тридцать! Это ещё почему?! За что?! С закрытыми глазами буфетчица считала до десяти. С – вас – два – тридцать. Буфетчица старалась быть вежливой. Несмотря ни на что. С в а с (с тебя, с тебя, дубина!) два тридцать. Конвейер нарушился, застрял. Очередь начала уплотняться. Требовался продёрг ленты, рывок её. Зажатые поясные портреты волновались. Ну, чего там? В чём дело? Когда?! Да вот, три пива – и два тридцать. ЗА ЧТО?! А сосиски?! Так это разве мне? А кому?! Без закуски не даем! А-а. Так бы и говорили. Тогда другое дело. Конвейер разом продёрнулся. Гражданин уже ходил в поисках места. Где ему встать. Две сосиски с тарелочки норовили скатиться, слететь. Три кружки в пальцах правой руки, как маски, играли театр. Гражданин пытался унять их, жонглировал. Можно к вам? Кружки успокоились только на столике Мима. И тарелочка, правда, уже с одной сосиской нашла наконец-то свое место. Мим занервничал. Тут же последовал гитарный страстный перебор. Будто бы защитный. У гражданина бровь полезла на бровь. Жалко улыбался – точно его разыграли. Ненормальный? Уйти? Остаться? Но гитара уже успокаивалась в чехле. Однако! Гражданин макнулся в пиво. В Забегаловке гражданин был, собственно, по-домашнему: в ботах Прощай Молодость и в трико в обтяжечку. Ножонки смахивали на молоты, насаженные на рукояти. У меня, знаете ли, сосед по квартире есть. Я в коммунальной, знаете ли, живу. Так вот, придёт, сядет молчком и сидит. Довольно молодой. Но с неведомым мне миром сумасшедшего в обычной, стриженой голове. Гражданин говорил со значением. Гражданин ждал реакции. Ответа. Хотя бы гмыка или кивка головы. У Мима, как писали раньше, не дрогнул ни один мускул на лице. Понимаете, в обычной вроде бы черепной коробке. Чего от него ожидать? Ведь грохнет тебя, к примеру, молотком по голове – и ничего ему не будет! Понимаете? А так – обычный, правда, стриженный под ноль черепок. И фамилия – Варёнов. Мим молчал. Напряжение за столом росло. Куда податься от чокнутого? Гражданин с молотами уже оглядывался. Прикидывал, куда бежать в случае чего. Мим молчком подвинул ему соль. Для пива. Спасибо! спасибо! дорогой товарищ! Дрожащей рукой гражданин с молотами стал лепить соль. На мокрый край кружки. Спасибо! Ваше здоровье! Во время акта – вытягивала, удлиняла лицо. Как будто что-то обсасывала. Как придонная рыба. Притом – ослепшая рыба, слепая. Кузбасс заглотил сразу полкружки. Всегда выдёргивала лифчик прямо из блузки. Как фокусник голубя. А общались мы с ней, в общем-то, неуклюже. Явно не находили о чём говорить. Разные характеры, как говорят. Абсолютно разные. Вот и тянули резину молча. Неуклюжее общение, Роберт. Была тут тоже у меня одна. Красный Леденец надолго закусил губу. Ну! Роберт! Да. Была. Года три назад. Сплошной женский уют. Зашёл в него в первый раз – и ноге некуда ступить. Ни вправо, ни влево. Да брось ты! Точно, Георгий, точно! И хозяйка посреди этого уюта вроде тощей старой чёрной муравьихи. У которой только вздёрнутые муравейные глаза и остались. Вытянувшись вперед, Леденец начал пить. Забулькала будто бы реторта. Шла будто бы перегонка спиртового напитка. Самогона, к примеру. Или чачи. Леденец остановил возгонку, выпрямился. С эдаким вульгарным налётом в голосе была. Который присущ только курильщицам. С эдакой вульгарной патиной курильщицы в голосе, я бы сказал. Смолила – постоянно. А я же не курю, сам знаешь. Как с такой? Лучше бы пила, наверное. Леденец напомнил о куреве. Дылдов и Серов втихаря закурили. Отсасывали из рукавов. Дымящаяся Забегаловка напоминала пожарную часть. Открывается тебе правда, Серёжа, по-настоящему открывается, в три-четыре часа ночи. На глухом провальном её разломе. Когда ты один на один со всем ночным миром. И понимаешь тогда, с тоской понимаешь, что все твои мечты, надежды – всё, что городил ты себе днем – это мифы: несбыточные, призрачные, иллюзорные. Тебе открывается твоя настоящая реальность, и ты безжалостно видишь себя в ней. Жестокое время – в три-четыре часа ночи, Серёжа. Дылдов пел под былину, под эпос. Пел, в общем-то, в несвойственной ему манере. Знаешь, Серёжа, бросать нам надо писать. И тебе, и мне. Вот те раз! Вот так Боян! Верхней пуговки на вороте рубашки у Дылдова не было. Дылдов был как-то беззащитен от этого, раскрыт. Так бывает беззащитна капуста. Ничего у нас не выйдет. Серов не узнавал друга. Смотри: кругом люди, не хуже нас с тобой видят, слышат и могут всё это рассказать. И возможно, даже написать. Но – не пишут. Понимаешь? Не-пи-шут. Просто живут – и всё. А мы? Мне тоже мечталось когда-то, что со мной будет лет эдак через тридцать. Писатель. Уже довольно маститый писатель. Так сказать, широко известный в узких кругах. У которого уже целая полка собственных книг. Старый, верный письменный стол, приятно огруженный рукописями. Милая, веселая, хлопочущая женушка. Дети вокруг тебя бегают. Вернее – как их? – милые внуки уже. Сусальнейший фильм! Сусальнейшая твоя концовка! И ничего этого не будет, Серёжа. Ни у тебя, ни у меня. Серов молчал. Духовность там ещё какая-то. Служение слову, своему таланту. Чушь! Серов смотрел на летящий в дыму телевизор. В телевизоре, как показывая аттракцион, закруживали Василия Блаженного. Как бы объясняя ситуацию, всё время заглядывала мордочка какого-то певца. Певец приседал, толмачил, пулял в экран руками. Нет, ты не прав, Лёша. Смотря как понимать духовность. Духовность ведь сейчас стали путать с духовенством. С попами, с церковью. Присвоили те всё себе. Оседлали. Мода, Лёша. Правильно Зенов говорит. Люди подвержены моде. Даже на формации, на государственные устройства. Царизм надоел – скинули. Как одежду. Теперь вот социализм надоедает. Надоедает людям всё. Что вчера было пиететным, даже святым – сегодня выглядит устаревшим, занудным, жалким. И даже смешным. Хочется человекам другого чего-то. Вот и томятся. Дылдов и Серов смотрели на телевизор. Патлатые, уже группой, никак не могли кончить. Каждый мучил свой Гитар. И притом, мерзавец, говорит всё время про меня: мором. ЭТОТ МОРОМ! Не еврей даже, нет – мором! Вы понимаете?! Антисемит! Чёрная сотня! Мрак в кепке! Музыкант мучился, готов был заплакать. «Полоскала я кальсоны, Полоскала, плакала: Где же, где же та игрушка, Что в кальсонах брякала?» Как неисправимые пойнтеры – наши писатели вздрогнули. Завертели головами. Бабёнок было две. Одна тощая, высокая, с послеинсультным, акульим ртом. В мужском белом плаще. С костылем под правой рукой. Другая плотная, низенькая. В платьишке с квадратным вырезом. Пела низенькая. Красная, натужная, топоталась. «Истопила Таня баню, Обвалился потолок, Через каменку скочила – Опалила хохолок! Их-хих-хи-и-и!» Грудь у неё была как у тайменёнка. Подруга с акульим ртом оглядывалась. Слышь, Флягина, ты это, кончай! А то – сама знаешь! Но Флягина опять затопалась. «Не ходите, девки, замуж, Ничего хорошего: Утром встанешь – титьки набок, И м… взъерошена! Их-их-их-их!» После каждой частушки Буфетчица замирала на полушаге. Точно ожидая второго удара по затылку. Бабёнка победно поглядывала. Лакала пиво. На-аша! Селяне, которые разворовали и пропили совхоз, широко улыбались. Наверняка наша! Из деревни! Лимитчица, поди, теперь! Заметно оживились разговоры. Говорят женщине: я без ума от тебя! Без ума, понимаете? Этим всё сказано! Человек же просто дуреет, когда влюблён. Без ума он становится – понимаете? Выпученные глаза Музыканта были полномочны. Не говоря уже о бороденке. Понимаете?! В общем, степь там идёт. Горы так себе. Низкие. Но за ними сразу – облака протянулись. Каким-то зыбким таинственным султанатом. Синего, тающего цвета. Ближе – верблюды в зное колеблются. Вроде брошенных в степи облезлых диванов. В самом селе осенние тополя, как жёлтые собаки. В общем, два года там на высылке жил. Один казах, двое русских. Один русский, десять казахов. Дымящиеся папиросы свои держала всегда на отлете, на длинных пальцах, на линии томных глаз. И папиросы эти её, как она, наверное, считала, были так же сексуальны, что и губная помада на её губах, что и краска и тушь на веках и ресницах. Да я-то не курю. Табак, табак её – отвадил меня. Тут хватился я бечь. Прямо по крыше. А потом с крыши как сигану! И в снегу оказался. По самые помидоры. Куда ж тут? Тут меня и повязали. Да-а. Свободы нет. Даже на воле. Так говорит зэк, вернувшийся в камеру через неделю. Железный афоризм зэка. Дылдов по-школьному сложил руки на столике, всё слушал алкашей. А я сказал – я схожу! Сам! Пират путался в плаще. Путался как птеродактиль в крыльях. На лыжах пойдёшь или так? Плацдарм подмигнул собутыльникам. Это ещё зачем?! Ну, чтоб скорее вернуться. С чекмарем-то. Хи-хи-хи-и. В честь Нового года. Взвесьте. Две мандаринки. Детям. И гоношит десять копеек. И всё двушечками, копеечками. А денег в кошельке всегда сотни три, не меньше. «В честь Нового года. Две мандаринки. Детишкам». Сквалыжница! Мужчина был в кожаной куртке. В грудь и в плечи его – будто заложили тяжелые диски. «В честь Нового года. Две мандаринки». Тьфу! Кто она тебе? Сестра. Двоюродная, правда. И ветры всегда там. Как одичалые собаки. Воют, лезут во все щели. Потому у казахов и узкие глаза. Щуриться в степи приходится. Постоянно щуриться. Смелое, надо сказать, утверждение! От любовницы вышел – как из вытрезвителя: ни свет, ни заря. Фамилия: Пендюрина. И вот эта Пендюрина говорит: дорогие наши ветераны! Поздравляем вас с Днем Мудрости и Седины! Такое, конечно, надо придумать. День Мудрости и Седины! А ветераны сидят – тупо и гордо. Выражение – Русский Человек. А если – Еврейский Человек? Или, к примеру, Казахский Человек? А? С побирушкой ко мне пришла. С какой побирушкой? С сумкой. С матерчатой. Дескать, картошки дай. Взаймы. Сквалыга! Ну, ты уж это загну-ул. Да честное слово, я тебе говорю! Погост прямо в степи. Как кладбище железных кроватей. Ни одного деревца не посажено. Редкий день подойдёт автобус. Потом возле свежей могилы и гроба скорбно стоят жалкой кучкой. Братством помнящих. Пока что помнящих. Да что человек! Три жалких сфинктера. Три жалких дырки, сказать русским языком. Так чувствуешь себя, когда твои собеседники вдруг начинают говорить на узбекском, к примеру, языке. Как тут тебе быть? Что изображать? Глубокомысленное понимание? Идиоты! И вот этот таксист, гад, стал заряжать по пятёрке! Представляешь? С человека! С Белорусского на Повелецкий! Рассказывающий таксист был очень низенький, кубастый, почти карлик. Машину вёл, наверное, по звездам. В лобовом стекле. Ну мы ему быстренько пи…лей навешали – стал заряжать по трёшке, как было. Га-ад! Не крысятничай, сволочь! Такса! Так решили! Молодая женщина – а постоянно ругается. По матушке. Селянин словно стеснялся своего чистого пламени, которое по-прежнему с груди лизало его лицо. Да что женщина! Дочка её, дочка десяти лет – и та тоже. Чуть что: пошёл ты, дед, на. Вот такие у меня теперь соседи в Ступино. А я в Усово приеду к дочери и зятю, приду к ним – а их дед опять свою калину парит. От желудка. Второй селянин от первого не отставал. Вонища в доме стоит – не перенести! Потопчешься – да так и уйдёшь, не раскрыв рта. И вся семья на тебя смотрит как на полоумного. Дескать, зачем приезжал? Так ведь газовая камера! По тополям, как стайки жуланов, свистят скукоженные листья. Осенний клен тут затесался. В общий ряд. Вроде красноносого пьяницы. Красота-а. Кузбасс опять читал из нескончаемой книги Природы. Или ещё, ещё, Роберт! Слушай. А за усадьбой, дальше на бугре, брошенная, одинокая, приклонилась осенняя ольха, с листочками кое-где ещё – как с забытыми папильотками. Да-а, Роберт, слеза набегает. Кузбасс незаметно, вроде бы постепенно, но верно пьянел. Впрочем, в это верилось мало. Нарушалась только связь, логическая связь рассказываемого. Когда начинает раскачиваться молва о тебе, то только удивляешься: уж слишком всё позорно в ней про тебя, гадко. Верно, Георгий, верно! Как ведь сейчас бывает: посреди рассказа своего – оп! Забыл! И стоп-кадр склеротика семидесяти лет. Натужно выпученные глаза и мгновенно выступивший пот. Красный Леденец тоже, походило, не следил за логикой своих рассказов. Женщина, Роберт, у которой всегда были ложно кривые ноги. Это как понять, Георгий? Красный Леденец честно выказал умственное напряжение. Ну, ноги, какие бывают у балерин. Вывернутые наружу. Бывшая моя секретарша. Не видел лет двадцать, наверное. Ну, почистил одежду, побрился. Пришёл. Очень худая стала. Тощая. Вся – как коллективная какая-то потуга. Которая состоит сплошь из морщин, жил и сухожилий. Да и в комнате всё старое, какое-то издыхающее. Диван с затхлыми вышивками и салфетками. Кровать в опавших подушках. Стол в облезлой махровой скатерти. Явно с расшатанными нервами. Часы на стене как кляча. Потом, когда молча пили чай – две мухи совокуплялись, зло рвали пространство над нашими головами. Упали в солнце в шторе и развалились. Ползали по нему как по разлитой какой-то Концерве. В общем, посидел я немного – и подобру-поздорову убрался. И после этого всё: никаких козьих потягушек. В смысле – больше не приходил.
По привычке наши писатели пытались говорить о своём, о цеховом. Дылдов посоветовал отнести отвергнутую рукопись в другое издательство. В издательство Н… Алпатов там сидит. Вроде бы дельный. Объективный. Не решает он ничего, Лёша. Нижнее белье всегда надевала вроде с прячущимся, скромненьким, но гордящимся кокетством. Слышь, Роберт? Серёжа, не отвлекайся. Про Алпатова говорим. Да. Алпатов. Не тянет он уже. Что называется, морально устарел. Лет двадцать там уж сидит. Так говорят во всяком случае. И всё как при глобальном переезде – неприхотливыми мыслишками обвешен, как какими-то старенькими, жалкими вещичками. Молодые рядом тащат капитальное, громоздкое, а он всё – какой-нибудь чайничек, половую щётку, связку прищепок. Старик, одним словом, Лёша. Да и не решает ничего. Так что пустое это всё. В какой-то момент за одним из освободившихся столиков появились два парня. Похожие на студентов. Были они в курточках, в брюках раструбами. В цирках, можно сказать, Элвиса. Элвиса Пресли. Начали есть сосиски. И не пили. Ничего не пили! Вы понимаете?! Только какой-то лимонад. Парни резко бросались в глаза. Были нагло беззащитны перед всеми. Как два начинающих советских педераста. Посреди, так сказать, остальных советских людей. Мгновенно сварганился обширный алкогольный альянс. Можно сказать – ОСЬ пропорола Забегаловку. Элвисы были обречены. Вот эт-то Козлы-ы. Даже с заглавной буквы – Козлы. Вынутое из пива железо Пиратского Паруса иссыхало. Парни ёжились под взглядами. Парни в трубастых элвисах заспешили к буфету. И, главное… уносили тарелки! Культурно! За собой! Вот эт-то пидорасы-ы. Парусу сделалось плохо. Ему срочно набулькали лекарства. Точно из преисподней, парни уже спешили к выходу. Элвисы их болтались внизу как тряпки. Юшкин и Каданкин. Два корешка. Маленький Плацдарм смеялся. По одной статье и пойдут. Ежедневное принудительное омузычивание людей! Вы понимаете?! Днем, вечером! В автобусах, в такси! Везде! Прямо святое дело. Только сел в такси – сразу врубает. На полную. И поехали с колотушками! Сам как погремушка. Это же музыкальное палачество! Они же все музыкальные палачи! В-вы понимаете?! Музыкант молчать не мог. А слушать не умел. Он умел только говорить. Его собутыльники ушли. Поэтому он уже ходил. Ходил по столикам. На ходу, не переставая, говорил. Но искал – слушателя. Так сказать, стационарного. Он ходил с большой, почти невысыхающей кружкой, как какой-то дояр со своим жёлтым надоем. Причём надоем очень дорогим, который пить следует понемножку и, по возможности, пореже. Он был, собственно, из пьяниц тех, которые пьют – чтобы говорить. Он был из редкой породы пьяниц. В пиджаке в крупную клетку – вроде клетчатого верблюда в Забегаловке. Он подошёл к столу с Парусом, Маленьким Плацдармом и остальными. То есть Батонами. Я – Зонов! Кто-о?! Пиратский Парус не поверил ни глазам, ни ушам своим. Я – Зонов! Волоски у Зонова на подбородке были рыженькими. Как бы смеющимися. О чём говорим? Кто, ты сказал, – кто? Да я тебя сейчас, козёл! Пиратский Парус начал вырываться из рук нависших корефанов. Да я тебя! Музыкант Зонов с достоинством отошёл. Старался не слушать нервно вздрагивающей клетчатой спиной летящих проклятий. Стал рядом с одиноким человеком. С Человеком С Похмелья. Который, положив руки на стол, стоял с видом обводного канала, не понимая себя. Если глядя утром в зеркало, вы видите опухшую, небритую физиономию с потухшим взглядом, значит вчера вы все-таки решили выпить пятьдесят грамм для аппетита. Музыкант пододвинул кружку. Своего жёлтого надоя. Драгоценного. Не заставляя себя ждать, Человек С Похмелья зубами начал бить чечетку. Точно решил кружку – сгрызть. Такой опаснейший аттракцион. Почище даже номера Батона, если вспомнить. Выглотал всё. И опять застыл. С обводными руками на столе. По-прежнему не понимая себя.
В обнимку, балансируя руками, выводили друг дружку штормовые моряки. Миграция в Забегаловке была постоянная, но количеством незначительная. Валялись уже пара-тройка молчунов под столами. Но их быстро обнаруживали и быстренько выносили куда-то. В основном наблюдались устойчивые, незыблемые содружества. Стоял как-то возле «Националя». И вот выходит группа в бейсболках. Вышла, можно сказать, группа бакланов. Хав ду ю ду, товаришч! Да пошли вы к чёрту! Да какая сейчас музыка! Какая, я вас спрашиваю! Названия только послушайте, одни названия! Рок-попс-группа – «Вынос тела». А?! Или, к примеру, другая, пожалуйста – «Уроем в могилу». В-вы понимаете?! А вдоль дороги тополя походили на светло-рыжих женщин. Облака разложены над ними шкурками. Кроличьими. Горки арбузов прямо у дороги. Тут же торгаши – все с пупочными грыжами. Нет, лучше Стрельцова никого не было. Пяточкой расчерчивал геометрию! А Харланов? Какой еще Харланов? Харламов, что ли? Ну да. Ну-у, этот попрыгунчиком всегда скакал мимо защиты! Попрыгунчиком! И пачка! Штука! И мы скачем до потолка Дворца Спорта! Если уж о спорте зашло, то что самое трудное в боксе, Роберт? Не знаю, Георгий. Собирать свои зубы, не снимая перчаток. Когда подходил к автовокзалу, такую увидел картину: старая толстая цыганка. Копной громоздится на винном деревянном ящике. Олухов подманивала довольно оригинальным способом – чёрная пухлая рука сжималась и разжималась жабой, перевёрнутой на спину. И-иди сюда, мой хороший! И-иди! Нервный жёлчный субъект передо мной бросил ей на ходу: счас! Разбежался! Старуха, как эхо, растерянно повторила: Счас, разбежался. Тут я и шмыгнул мимо. Да интеллект его размером с кроссвордик! С чайнвордик! Он же ничего в жизни не читал! Ничего не знает! За него же всё написали! Просто матерый голубь мира! Лёша, понимаешь? С учительским же именем-отчеством – Лидия Павловна. Она их тех, которые всегда артикуляционно произносят слово – Здравствуйте. Не «здрасте» или ещё там как, а именно здравствуйте! Ну и понятно – «который час»?, вместо – «сколь счас время»? «Достаточно» – вместо «хватит». Однако подаренные на первое сентября цветы несла домой всегда как детей. Приклоняла к ним лицо – дураковатая, счастливая. Тут – Олле. Холики вам надо? Олле, дай на нен! Н-недоманский! Хах-хах-хах! А за городом таксист гнал с решимостью самолета, готового взлететь! Сердце заколыхивало! Тут же покачивался богатейший монетный двор павлина, распущенный чуть ли не на всю округу. Красота-а. У, тощая змеюка! Я – ей – говорю. У-у, тощая! Недаром фамилия – Шкурина. А у меня, наоборот – с лицом как колобок. И фамилия – Сероштанова. Да религиозная вера – это же добровольнейший отказ от использования своей головы по прямому назначению. По прямому! В-вы понимаете?! О-ох, ты какой умный! Загад не бывает богат. Точно! Не верь, не бойся, не проси! Козлы! О чём ты говоришь, Роберт?! Даже фамилия его сильно корешится с ложью! Фамилия! Только на Руси такое бывает! А – отчество? Эй, Консерватория, Музыкант! Он не родственник тебе случайно? Кто? Не знаю такого! Явные уголовники. Короткостриженые, но седые уже оба, морщинистые, как корзинки – а смеются! Единственный железный клык у одного – как пламя спиртовки во рту! Поселок называется – Глубокое. Само название за себя говорит. Ну что, завод там, конечно. На взгоре. Труба – как баба-яга с распущенными волосами. Когда подъезжаешь на машине – цеха дымятся как гнилушки. Экология, в общем, мрак. А впереди, как назло, колёсный трактор! Ковш болтается сзади как елдак! Я по тормозам! Туда, сюда! Бесполезно! Так и звезданулся в него! Машина всмятку! Бывало, залезу на неё, да ещё на руки встану – и начинаю трясти щеками как седлами. А она – ногами, ногами выстреливает. Картина, Роберт. Прямо надо сказать. Дылдов подкидывался, давил смех. Серов внимательно смотрел на старого, как он считал, маразмата. Ни о каких «эх, записать бы» речи не шло. У человека с возрастом обиженность в лице появляется, Лёша. Обиженным он становится. Притом обиженным постоянно. На любовниц, на жен, на детей, внуков. На бывших сослуживцев. На всех. Не так всё прошло, неправильно, неверно. Не так залезал, не так вставал на руки, не так тряс щеками. Прямо трагедия. А всё дело в склерозе, Лёша. В склерозе сосудов его головы. Головного мозга. Шуба всегда до пят у неё. Вроде теста. И пинает её. Вот видишь – он обижен. Насмерть. Навечно. Даже на шубу. Он даже не подозревает, в чём тут дело. В чем настоящая его трагедия. Если увидишь старичка жизнерадостного – знай: в голове у него всё в порядке. Сосуды и сосудики его чисты. Он может болеть чем угодно, порой даже смертельно – однако лыбится, не теряет юмора. Глаза как сверчки – всё мгновенно увидят, всё мгновенно поймут. Тебе, брат, невропатологом бы работать – всё для тебя просто. Моча, рефлексы, сосуды. А душа? При чем здесь душа?! Когда морда у человека становится как садчая баба в бане! При чём?! Когда внутреннее нездоровье лезет наружу! «Невропатолог»! Всё же видно!
А видно было то, что в Забегаловке – четыре окна. Друзья точно впервые обнаружили это. И только в одном окне были цветы: весь расщепленный, длинный щучий хвост и рядом тучный низкий фикус. В окне словно согбенно скорбели Дон Кихот и Санча Панса. И солнце над ними было непонятным, пестрым, цвета рыжего шиповника. Почему-то окурки задавливали одному Санче. Вроде как за пояс. Как мзду в висящую кружку. Время от времени старушонка в белой куртке выгребала прибыток. На эту тему пыталась запеть частушку женщина, похожая на тайменёнка. Длинная подруга в плаще не давала. Мгновенно подставляя ей кружку пива. Слышь, Флягина. Ты того, не надо больше. Опять ведь в трезвяк заметут. Акулий рот походил на сломанную мышеловку. Слышь, Флягина. Пей вот лучше. Ещё три рубля бутылочных осталось. Да пошла ты в пим дырявый! Флягина сердилась. Однако с рук товарки пила пиво послушно. Как молоко ребёнок. А ещё один мой сосед, тот, наоборот – толстенький. Давно осмелевший Мужчина В Молотах, насаженных на рукояти, втолковывал Миму с гитарой. Втолковывал как самостийному телевизору. И вроде нормальный, немолодой, но всегда, где бы ни был – переполнен матерщиной. Матючками. Знаете, как с неряшливыми остатками еды на губах. После выпивки. Бля! бля! эптв! ёпств! Он её вроде задавит, эту еду, – а она опять на губы лезет. Как бы срыгивается. Женщины не женщины, дети не дети – не понимает! Но главное, главное, послушайте, фамилия у него – Дявочка! Иван Дявочка! А? Человек В Молотах С Рукоятями радовался. По-прежнему возле отключившегося телевизора. Она работала в Бюро по трудоустройству. В районе Маяковской. Но это так – ширма, для отвода глаз. Какая там зарплата! Человек С Похмелья все так же стоял за столиком в виде обводного канала, сотворенного из его рук. Однако выглотав вторую кружку у Музыканта, чувствовал моральную ответственность за содеянное, изредка кивал. Дескать, да, согласен, продолжайте. Основное её дело, московский её кусочек с маслом – сводничество. Матерая сводница! Понимаете?! Принимала клиентов дома, тайно. Постоянно принюхивалась к своей картотеке на столе. Как мышь на базаре. Норовила выдернуть из неё клиенту его счастливый билет. Его счастье. Вот, вот, посмотрите какая приятная женщина! И всего сорок девять лет! Действительно – всего-то. Заслуженная бабулька на пенсии. Жених, который пришёл раньше меня, уже пребывал в том виде, когда от подступившей старости высоко обнажается, лысеет затылок. Понимаете?! Однако воротил лицо – стара, не для меня. И, ничего не подозревая, с фотографии на него смотрели доверчивые кукольные глазки претендентки на счастье. Нет, не подойдёт. Тогда, может быть – вам? И сводня подает фотографию мне. Мне! Вы понимаете?! Дескать, что нам не гоже, то вам дороже! Вы понимаете, какое происходит кино?! Я, конечно, отказываюсь. Категорически! Как линялые румяна старухи – колышет над землей свет заката. Красота-а. Кузбасс запил изреченную фразу двумя хорошими глотками пива.
Тут в Забегаловку вошли двое. Нет, эти не были в брюках Элвиса. Брюки их были обычны. Однако друзья казались измученными и вдохновенными. Как только что отыгравшие на сцене музыканты. Пока один ходил за пивом, другой подвесил пустую клеенчатую сумку на крюк под столик. Когда две кружки пива были поставлены другом на стол – достал чекмарь. Помедлил. Хотел налить, но рука начала словно бы перчить кружки. Рука порхала над кружками. Голубем! Друг мягко остановил его. Однако сам – тоже заперчил. Да ещё хлеще! Его голубь точно одноного подскакивал! Собутыльник старался не смотреть. Вдруг выхватил из-под стола сумку. Посмотрел в неё как в омут, и мощно вырвал в него. Друг отпрянул. С лицом удивлённого байкальского омуля. Первый усердно блевал, кланялся к сумке. Так лошадь, обнажая жёлтые верхние зубы, залезает в торбу с овсом. Не выдержав этой картины, кореш вдруг тоже рыганул. Но струйкой. Тоненькой. Так и уходили они к двери, не выпив ни грамма из кружек на столе. Так и уходили они ладом, как цельное музыкальное произведение: один утробно трубил в сумке, другой вскидывал голову и тоненькие флейточки пускал. Парус мотнул башкой – Батоны послушно заторопились к брошенным кружкам. Две кружки уносили в обхватку. Даже не руками, а словно бы поленьями. «На окне стоит цветок, Голубой да аленький. Ни за что не променяю х… большой на маленький!» Батоны чуть не выронили кружки. Покондыбали непонятно куда. Подруга в плаще рукой зажимала Флягиной рот. Пыталась заткнуть Флягину как взорвавшийся жбан с кислушкой. Бросила. Легко, быстро пошла. Будто цапля. Совершенно не хромая. Переставляя костылем отстранённо. Точно просто уносила чужой костыль. Умелась с ним за дверь. «Я, бывало, всем давала, Сидя на скамеечке. Не подумайте плохого – Из стакана семечки!» Над диском телефона палец Буфетчицы – мучился. Никак не мог крутануть две цифры. Всего лишь две. В крови Буфетчицы шла сшибка любви и ненависти. Подлости и всепрощения. Убрала всё же Буфетчица палец. На этот раз убрала. Снова возложила руку на кран. Пенные кружки строились в ряд. Пенные кружки напоминали германию самодовольных бауэров. Ну, и понятно, сплошная рабоче-крестьянская власть – связками растаскивала их по Забегаловке. Насмотревшись всех этих драм и коллизий, Дылдов вдруг заговорил О Начале. О начале, сказать так, творческого своего пути. Давно это было. Ещё в городе, где развалилась его семейная жизнь. Понятно, местный гений-поэт там имелся. В помещении всегда сидел в лохматой собачьей шапке. Гения сразу видно, не ошибешься. Очень гордился своей метафорой – «пальцы, как фр-реза». Так и читал: «В бревно воткнулись пальцы, как фр-р-реза!» Литобъединение называлось «Феникс». То есть – восставшие из пепла. И точно: в основном – пердунки и клячи-поэтессы. Человек пятнадцать сядут в кружок – и чирикают строго по очереди свои стишата. Написанные дома за прошедшую неделю. Творчески волнуются, красненькие, горящие. Я бы назвал это объединение как кафе – «Отдушина Графомана». Притом – единственная. Один из них, с бородой под английского шкипера, принёс как-то стихи, в которых героями были Парняги. Не парни, а именно – Парняги. Они боролись на лодке с крутой волной Иртыша. Пели вольную песню. Затем под этой же лодкой, уже на берегу – прятались от страшной бури. Которая деревья по берегам – рвала с корнем! Потом снова плыли и пели. Парняги. Настоящие Парняги. Стих назывался – «Буря над Иртышом». Прочитав свое творение, Шкипер складывал листки. Восставшие из пепла молчали, пораженные величественностью картины и Парнягами в ней. Ровно через неделю Английский Шкипер принес новое стихотворение. В нём Парняги заготавливали дрова по-над Иртышом. Топоры Парняги – «легко внедряли». Фениксы с уважением покачивали головами – стихи о парнягах на Иртыше сбивались в крепкий цикл! Шкипер опять складывал листки. Он был сейчас – как устоявшаяся законная заставка в телевизоре. Заставка к серьёзнейшей судьбе. В общем – кучка куличков на своем болоте. Понимаешь? В каждом городе, Серёжа, кулички такие есть. Ничего не читают, ничего не знают. Что, так сказать, в окрестностях делается. Только пищат на своем болотце. Как будто не было никакой поэзии до них и не будет после. Кулички. Горластенькие. Понимаешь? Однажды, правда, столичную поэтессу встречали. Приехала к нам по линии Бюро пропаганды совлитературы. На халтуру, в общем-то, прибыла. Довольно известная. С широкой переносицей. Как будто по переносице сильно дали кулаком. От этого смахивала на водолаза. Однако на сцене в клубе стояла в позе русалки, поставленной на хвост. Читала свои стихи часа полтора. Под бурные аплодисменты кружковцев. Наши потом тоже захлебывались, давились стишатами. Некоторые хвалила. Когда гений стал вдарять своими «фрезами» – зачугунела. Ещё более стала походить на водолаза. Потом уже, во время чаепития, я тоже пытался подсунуть ей один свой рассказец. Конечно, совершенно гениальный. Ну, что. Полистала из вежливости. Не по моей епархии, молодой человек. Так и сказала. Архимандрит, оказывается, советской литературы! Знаешь, о ком я говорю? С широкой переносицей? Водолазного вида? Конечно, Лёша. На фотографии – женщина! Музыкант начал торжественно. В полный рост женщина. Стоит к вам в полупрофиль. Музыкант говорил Обводному Каналу. Очень кокетливо вам улыбается. Стоит как бы в очереди за мужчиной. С просохшими уже ногами и задом. Вы понимаете?! Одна грудь только вперед торчит. Как у вагона пресловутый буфер! Словно снизу всё в грудь перебралось у нее! Понимаете?! Вам – нравится? Сводня кокетливо вас спрашивает. Обводной Канал явно не мог представить такой ситуации. И так по-змеиному, подколодно говорит – вашей, между прочим, национальности. В-вы понимаете?! Всякое движение вод у Обводного Канала разом остановилось. В-вы понимаете?! В а ш е й национальности? А? Да это же ещё один антисемит! Это же Мрак В Кепке-2!! В-вы понимаете??!! Пламенная речуга. Прямо надо сказать. Дылдов перевел дух. Из чекмаря Дылдов забулькал в кружки. Минеральные источники по-прежнему повсюду журчали. Весёлые клизмы Гурзуфа и Минвод не иссякали железно. Не хватало, правда, местных, отштампованных усачей. С их длиннющими кинжалами, лезгинками, лагманами. Ну да это можно как-то перенести. Мы ведь как? – к светофорам давно привыкли. А тут увидишь молодца с палкой на перекрёстке – куда он махает? Чёрт его разберет! Брезгливо приложатся щёчками друг к дружке – и прочмокнут пустоту возле ушей. Манера теперь такая у дам. Мода. Богданчиков фамилия его! Богданчиков! А один наш деревенский пинальщиком здесь в Москве работает. Селянин ласково придвинул свое Культпросветучилище к собеседнику. Кем, кем ты сказал? Пинальщиком. Ну, этим, как его? – каратистом. В кабаке. Пинальщик. Вышибала, если по-старому. Быстро научился. Слышь, Николай – Глашки Макеевой сын? Точно. Тоже Колька. Тёзка мой. Поговорили с ним. Перед входом. Однако в ресторан так и не пустил – не по карману, дескать, вам там будет. А так из нашей деревни. Почти родственник. Наш представитель. Туман. В тумане осенние, засмуревшие энцефалограммы деревьев. Едешь – как по другой своей жизни. По будущей. Словно бы ты уже на небе. А у самого глаза сразу как тараканы: зырь, зырь во все углы. Га-ад! Когда родители пьют – дети их чокаются. Ну, начинается лето в деревне! Да тебе ли говорить это! Да я так. Как посторонний. И вышел он от неё быстро и как-то удивленно. С двумя красными отпечатками на щеках. Натуральное динамо! Однако усики были по-прежнему – с пробором. С пробором на серединке. Стерва! Да какие языки! О чём вы говорите! Весь английский его на уровне – Тхе, тхе. Вы понимаете?! Как у недоросля с задней парты. Тхе. Тхе, Лидия Павловна. Тхе Хотел. Тхе Хотел! Лидия Павловна! Или: Тахи! тахи!, – Лидия Павловна! Тахи! Да она же с утра не знала, куда левой ногой ступить, куда правой! Роберт! Сцепятся – и давай раскуделивать друг дружку! И это мать и дочь. И ведь давно уже перебиваются из кулька да в рогожку, работать надо, обеим работать, но нет – водку жрут и дерутся. Жрут и дерутся. И, главное, утром к столу в трусах вышел. Как будто в сачке. Для ловли бабочек. Или как с подсачиком. Для выволакивания крупной рыбы на берег. Вот это зять! Вот скажи: для чего учат? Вообще – для чего? В техникуме там, в школе, к примеру? А-а! Не знаешь! А для того, чтобы самим не работать. А-а! Купи-ил! И, главное, регулярно, каждое утро, оставляет в унитазе большого кота с хвостом. Всегда одинакового! Не смывает! Вот так зя-ать! Вышел после суда с ней –душа как пробка со штопором. Вытащенная! Верите?! Так и пошёл с этой пробкой и штопором. А ещё один мой сосед, третий, чуть что на кухне – сразу выбегает! Похожий на футбол впридачу с футболистом. Так и хочется поддать его ногой! Человек В Стоячих Молотах С Рукоятями даже плясанул от нетерпения молотами на месте. Молотами с рукоятями. Мим же схватил гитару, запузырил прелюд. Словно мгновенно построил дребезжащий забор. Получалось, полностью поддержал Человека В Молотах. В Молотах С Рукоятями. В дымный летящий телевизор прорвался джаз-оркестр. Саксофонисты упрямо бодали пространство перед собой. Контрабасист все время валил контрабас вперёд. Будто пытался изнасиловать страуса.
Вошел в Забегаловку человек в шляпе. Опрятного профессорского вида. Пропоротое по позвоночнику ратиновое пальто было подшито аккуратно суровой ниткой. Широкими стежками. На манер шва на фаршированном гусе. За свободным столиком Профессор снял шляпу. Обнажил, можно сказать, Фудзияму в тумане. Возле Профессора стояла одна кружка. Одна кружка пива. Профессор был, видимо, из тех, кто умеет пить. Нос его был цвета морской волны. Отпивая из кружки, Профессор вел взгляд по Забегаловке. А музыкант Зонов уже стремился к нему. Чуть ли не бежал. Бросив даже Человека С Похмелья. Так устремляется сперматозоид к яйцеклетке. Сколько лет, сколько зим!! Евгений Александрович! Дорогой! Произошло радостное оплодотворение. Мгновенно создалась жидкая капсула для последующего развития и роста плода. Профессор с фудзиямой тоже радовался. Рыбак рыбака видит издалека! В смысле интеллектуал интеллектуала, дорогой товарищ Зонов! Жёлтый большой надой болтался в кружке у Музыканта, излучал такое же счастье, как и сам владелец надоя. Мы ведь вас вспоминали, дорогой Евгений Александрович! Со своим коллегой. Помните его? – руки-ноги заплетёт всегда – и сидит на стуле как скрипичный ключ. Помните? У-умница. Трахтенберг его фамилия! Глаза у Музыканта были как всегда выпученными. Абсолютно красносмородинными. Однако Профессор уже сам торопливо говорил. Так отлучённый от сцены, настрадавшийся певец, дрожаще пробует голосок, голосовые связки. Творческий коллектив, тов. Зонов, он всегда с иголками, выражаясь фигурально. С жуткими иглами дикобраза, даже можно сказать. Будь то театр, филармония, или даже ваша консерватория. Злое критиканство везде, подсиживание, наушничанье. Непримиримые лагери, лагерёчки. Как верно! Как верно, Евгений Александрович! Надой душевно болтался. В районе души Музыканта. Ка-ак верно! Но, с другой стороны – Мрак в кепке! Как какой-нибудь экзамен в консерватории, в зале – пианисты играют, скрипачи – он за сценой трубу болгаркой режет. Вы понимаете?! В завод, в завод консерваторию превратил! В визжащий завод! Понимаете?! И ничего ему не делают! Вы понимаете?! Потому что Мрак в кепке! Профессор попытался осмыслить услышанное. Соотнести его с высказываниями своими. К селу это было сказано, или к городу? Да. Конечно. Вообще-то. Однако в те времена, уважаемый тов. Зонов, гитара ещё не умела импортно вяньгать. Была наполнена наивным – Гоп со смыком это буду я. Да просто бацала цыганочку! Другая гитара была. Совсем другая. Наивная. Теперь Зонов напоролся на плетень в деревне. Как верно! Это. Да. Однако, Евгений Александрович! Зайдите в кинотеатр зимой. В зал. Перед началом сеанса. Зонов повременил, пока Профессор идёт в зал. И что вы увидите? Что?! Перед началом сеанса?! Парни, все как один, тупо, тупейнейше сидят в шапках! Начнёт уползать свет – тогда, как по команде, стаскивают. Прихлопывают ладошками макушки. Это – культура? Вы понимаете, что происходит?! Да и здесь – посмотрите, только осторожно по-смо-три-те по-сто-ро-нам. Что-вы-ви-ди-те? Нисколько не таясь, Профессор начал озираться по Забегаловке. Как бы с новыми глазами. Открытыми ему Зоновым. Почти все посетители были в головных уборах. В кепках. Двое даже в шляпах. Не снимали. И не думали снимать. За исключением Кузбасса и Леденца. Дылдова и Серова. И увиденная Профессором картина была самодостаточна и удручающа. Фудзияма на Профессоре даже несколько опала в тумане. Однако! Однако, уважаемый тов. Зонов, возьмем не столь далёкое время. Время, когда по всем Бродам задиссидиркали, сказать так, этакие джинсовые парнишшонки. Причём с подружками тоже джинсовыми. Как с ковбойскими своими седлами. И смех, и грех! Да вы сами, наверное, диссидиркали, уважаемый тов. Зонов? Кто? Я-а? Никогда! Профессор хихикнул. Плотоядно хихикнул. Профессор взбадривал в себе новую мысль. Неважно какую. Однако Зонов не отставал. «Внимание! Спешите!! Завтра будет поздно!!! Радиостанция «Юность», «Товарищ»! Патентованное средство для роста тщеславных волос! Заочно! Персональные ванны бальзама! Написал к нам – как написал! Купайся, плавай! Рост и завивка тщеславных волос! На глазах, пардон, на ушах у всего Союза! Спешите!!!» Вы понимаете, что происходит, Евгений Александрович? В-вы понимаете?! На пространствах Забегаловки начали оборачиваться: чего, спрашивается, орёт? Булькали. Как бы бальзамировали. В смысле, давали пиву бальзама. Однако телевизор тут сменился. В телевизоре будто бы Англия началась. Точно. Биг Бен. Циферблат – вроде колеса от большой застарелой рулетки. Лохматые королевские гвардейцы в юбках, как застоялые лошади, вздёргивали перед туристами мосластыми ногами. К остановке подрулил лощеный английский омнибус. Странный, на русский глаз. Как будто один автобус заехал на другой. И дальше поехал. Ничего не делая. Да-а, заграница. А я вот был в Узбекистане. Во-первых: плов – вот такую тарелищу дают. Да ещё лепёху такого же размера впридачу. И – рубль! Один рубль! Нет! Слушайте, други! Тундра. Рыжий лунный свет – как застывший рыжий звон в великом колоколе небосвода. В речке – женщина. Подхватил. Как будто речку выдёрнул на руки и понёс на взгорье! А я когда попал на приём к нему – взгляд поверх очков тяжёлый, напряжённый. Как антабус. «Давно, подлец, пьешь?!» В пот аж ударило. Стро-ог. Портно-ов. А эта – старуха была. Но крепко молодилась. Лицо – будто налепили на голову! На базаре цены с утра ещё бодрые. Бодренькие. Это потом, к концу дня, начинают скисать. Да. Во-вторых – их женщины. Статная узбечка, к примеру, идёт мимо тебя. В шароварах и платье-балахоне характерной национальной расцветки. Узбечка средних лет. Груди, будто подвешенные дети, балуются в этом балахоне. Как два ребёнка! Так и уходит от тебя – будто восточные разноцветные сумерки, бьющиеся над красной пылью заката. Да-а. Самарканд. Крякнулся Паша, значит. И ведь вроде бы особо не пил. Жалко мужика. И пошла от меня! Знаете, истерически громкой походкой «каблучки». Дескать, подлец! негодяй! Да подростки ещё! Подростки! На грани срыва в скотство взрослых! Со святости детства. Подростки! Вообще-то, Роберт, только жалость к другим делает человека человеком. Только жалость. Сострадание. И ничего больше. Да что вы говорите, Евгений Александрович! Да так же испокон века было в искусстве! Испокон века! Какая там независимость! Кто девушку ужинает, тот её и танцует! Понимаете?! Кто у-жи-на-ет! А по вечерам, в темноте старый пёс лает про самого себя: х…й! х…й! х…й! Красота-а. Скажи, Георгий, скажи! Разве можно жить с фамилией ВандолЯк?! Можно?! Скажи! А я, а я – живу. Красный Леденец, он же – Роберт, он же Вандоляк – заплакал. Ну, ну, Роберт. Подумаешь! А у меня, чем лучше? – Толпа. Георгий Толпа. Это же во сне только такое может присниться! И ничего – живу. Ну, будет, будет! Одной рукой Кузбасс-Толпа обнял друга. Вандоляк-Леденец сразу судорожно прижался. Гоша! Умирать страшно! Стра-а-ашно! Леденец весь трясся. Ну, будет, Роба, будет! Не надо говорить об этом. Будто судно с пробоиной, Кузбасс гладил у себя на боку налипший пластырь. Будет. Успокойся. Глаза Кузбасса были далеко. Послушай вот лучше. Был я, Роберт, с этой женщиной-полунемкой почему-то постоянно глуп и благостен. Любовь это всё же, наверное, была. И жил я с ней и её котом-онанистом на улице Тихой, где был один-разъединственный дом. Представь, Роберт: старенькая панельная пятиэтажка на отшибе. На этой несостоявшейся улице Тихой. Вроде оставленного кем-то на пустыре чемодана с наклейками. Это днём. А по вечерам, как я говорил, ночной пёс с удручением лает о себе: х…й! х…й! х…й! Красота-а. Слёзы по большому лицу Кузбасса стекали свободно. Леденец-Вандоляк всхлипывал, сморкался в подмышке у Кузбасса. Да-а. Женщины у подъезда на скамеечке сидят. Уже все в возрасте. Уже все крокодилицы. А я в окошечке над ними сижу как птенчик. Красота-а. Слёзы бежали свободно. Просто как источники. Не обременяя глаз. Взор Кузбасса был по-прежнему за пределами Забегаловки, в неведомой дали. Или вот ещё, Роба: луна в небо вылазит, зловоня как сыр. Другой пёс, не менее старый, начинает вторить первому: х…р! х…р! х…р! Красота-а. Друзья зажмуривались, друзья рыдали. Профессор с фудзиямой старался смотреть на всё это несколько отстранённо. Нейтрально. Вроде бы даже мимо Леденца и Кузбасса: раздражает обычно людей, даже пьяных, если кто-то видит их слёзы. Да. Так что лучше не нарываться. Профессор повернулся к Флягиной. Одинокой Флягиной. С пасторским, страдающе-умилённым сочувствием. Как бы говоря ей: как дошла ты до жизни такой, дочь моя? Да пошёл ты в пим дырявый! Ишь, уставился! В повседневной жизни, в обыденности, сказать так, Флягина не материлась. Все выражения смягчала, пользовалась суррогатами мата, вроде бы кожзаменителями его. Ну а уж в частушках – тут сам бог велел. Тут уж без всяких кожзаменителей. «Меня мама родила да наказывала, Чтобы каждая п… не указывала!» Профессор разом отвернулся. Безобразие! Куда буфетчица смотрит?! По типу – где милиция?! В большом тазу Буфетчица зло волохтала с водой ушастое стеклянное поголовье. «Нам хотели запретить По нашей улице ходить. Ах, вы запретители! Х… не хотите ли?» Флягина напоминала мгновенно перемигивающий светофор на углу. Тупой, одноглазый, но всё видящий. Развязка для Флягиной надвигалась. Это было очевидно для всех. Но – хлопнула дверь. Смешала как бы всё и снова быстро растасовала карты.
В Забегаловку втащила себя старуха в широкой вислой чёрной юбке. С лицом и шеей тяжелой безобразной жабы. Где тут мой любимый?! Прямиком направила себя к Человеку С Похмелья. К Обводному Каналу! Ни слова не говоря, маханула его оставшиеся полкружки. Отделила, отодрала Канала от стола, и так, с обводными руками, повела к двери. Как какого-то арестованного Овода. Революционера. Ожидающего наручников. Руки Овода всюду натыкались, упирались в дверь точно приделанные, гуттаперчевые. Никак не давали ему выйти. Вот эт-то Овод! Старуха, взметывая юбкой, упиралась ему в спину руками. Толстые ноги её пробуксовывали, будто паровозные тяги с весами! Откуда сила бралась! Вытолкала всё ж таки! Жабий рот победно квакнул Забегаловке: пока! «Эх, юбка моя, юбка размахалка! А под юбкой у меня кормодобывалка! Иэх-эх-эх!» Забегаловка покатывалась со смеху. Ну, Флягина! Ну, чёрт! Ну, даёт! Все поворачивались к Буфетчице. Так поворачивают головы к Маме пацаны: прости ты её, Мама, прости! Буфетчица ринулась в кухню. Но там от смеха тряслась опарой, сползала со стула повариха. Тогда – дальше, дальше, в подсобку! К чёрту на рога! В преисподнюю! А Флягина поймала свой звёздный час. Флягина затопалась: «Мне миленок подарил золотые часики. А за это мне пришлось прыгать на матрасике! Иэх, эх, эх, эх!» Тайменёнок колотился – красный до умопомрачения. Нет, это невозможно! Дылдов заходился смехом, корчился, икал, подпрыгивал. Серов старался быть хладнокровным. Но морду перекашивало, дёргало. Так смеются обычно парализованные. Что смешного-то? Площадная бабёнка! Что тут смешного-то? Трандил, как попугай. Пока не сломался. Пока не начал тоже подпрыгивать и тыкаться головой в голову Дылдова.
Прикройте меня! Скорей прикройте меня! Музыкант вдруг начал приседать, прятаться за Профессором. Схватил даже свой удой со стола. Близоруко оглядываясь, по Забегаловке быстро шёл длиннолицый человек. Обликом очень похожий на Зонова, тоже еврей, с бородкой и усами, однако, под русскую секирку. Мой брат, мой родной брат! Музыкант задавливался, Музыкант ходил под столом, как беременный верблюд, ищущий игольное ушко. Длиннолицый сделал длинный эллипс по залу, оставив в нём как бы свое длинное лицо. Вышел. Мое счастье, что не увидел! Мое счастье, что зрение у него неважное! Музыкант вытирался платком. Профессор же стоял – как уличённый. Уличённый в неблаговидном. Фудзияма налилась красным стыдом. Однако, тов. Зонов! Шов на ратиновом пальто даже несколько разъехался. Стал походить на скелет от большой съеденной рыбины. Однако! Поспешно Музыкант начал заверять собутыльника в полной своей дееспособности. В дееспособности по части, так сказать, алкоголизма. Не волнуйтесь, Евгений Александрович! не волнуйтесь! всё будет хорошо! уверяю вас! Да уж куда лучше, тов. Зонов! Чуть тумаков из-за вас не получил. Профессор забулькал в кружку. Из чекмаря. Выдернув его из ратина. Из ратина со скелетом рыбы на спине. Даже забыв, что чекмарь должен идти в конце вечера. Идти как хлыст. Долгожданный хлыст. Хлыст, который и выгонит его потом на улицу. И быстро погонит домой. Во избежание встречи с так называемыми медиками в сизых шинелях. Профессор хлопнул. Ровно полкружки ерша. Через некоторое время нос его (синяя морская волна) начала приобретать сходство с сердящимся, раскалившимся изнутри кальмаром. Так о чём я? Мысль была потеряна. Безвозвратно. Пальцы в раздражении стукали по столу. Ветераны тут ещё зачем-то в телевизоре появились. Вовы. Почему-то из 9-го Мая. Шагают строем. Шеренгами. Снятые почему-то замедленной съемкой. Как бестелесные, медленно передуваемые призраки. Одетые в одинаковые костюмы. Потусторонние уже, не земные. Какой дурак придумал так их снять? Как уже отлетающих на небо? Ч-чёрт! И телевизор вырубился, затрясся большим серым бельмом. Вроде натуральный конец света наступил! Ч-чёрт! Профессор опять затряс в кружку. Помедлив, граммульку и Зонову плеснул в удой. Тот сразу замахался руками. Что вы, что вы, Евгений Александрович! У меня есть! Вот, можете посмотреть! Игриво, как дама, приоткрыл самую чуточку своего шахматного пиджака. Профессор, с поспешностью развратного мальчишки – заглянул. Отличная грудка! Прямо надо сказать! Зонов тут же сдоил ему в кружку. И себя не забыл. Лишь после этого церемонно чокнулись. Георгий Толпа тем временем решил поесть. И Вандоляка как-то заставить. Не все же водку жрать, Роберт! В двух принесённых тарелках, с десятком сосисок в каждой, было что-то от лесобиржи. От расчихвощенных плотов её. А вообще, скажу я тебе, Роберт, смотришь на эти их рисованные иероглифы и видишь почему-то нагромождения китайских пагод. Дичайшее письмо, скажу я тебе, Роберт. За два года в Китае – выучил, может, с пяток слов. И то – чисто визуально. Магазин там, аптека, закусочная. Сам же писать – даже не пытался. Родом была с глубинного Урала. Сосиска у Леденца почему-то растягивалась. Будто резина. Поселок, видимо – рудник, назывался Теплая Гора. Говорила на «тЬся». «КупатЬся», «трудитЬся» и т. д. «Нужно, Роберт, трудитЬся, а не напиватЬся!» Запоминающаяся женщина была. Сосиска никак не рвалась. Кузбасс потянул сосиску у Леденца, будто у пса. Леденец не отдавал, тряс головой. Нужно от целлофана-то освобождать, Роберт! Вдвоём кое-как справились. Профессор смотрел на эту эманацию Кузбасса и Вандоляка. Потом на горы сосисок перед ними. И то ли тоже не прочь был бы накинуться на них, то ли просто жалел деньги и время друзей, которые те попусту тратят на эти сосиски. Несмотря на привычную, равнодушную жестокость современной больницы, Роберт, – есть всё же в ней, ещё сохранился отчаянный постулат: мучить больного, безнадежного больного, будут в ней до конца. И будь то пацан с наполовину удалённым мозгом (опухоль) или же окончательно недвижный, еле дышащий старик. Странный, жестокий постулат. Толпа насыщался. Широко разевал рот. На ум приходила Ниагара. Падающие в нее бревна. А вообще-то зимы там тусклые, Роберт. Серые. Одичало свистят на ветру пустые мётла пирамидальных тополей. Словно пойманные продувные бестии. Иногда с утра – сильный мороз, туман. Солнце – как закинутый в небо снежок. Правда, уже днём, меж штор начинает строить рожи весёлый солнечный свет. Можно сказать – красота-а. В телевизоре заиграл симфонический оркестр. Походил он на какое-то обширное капище насекомых. Притом насекомых разнообразных. От массы воинственных комаров и мух до плотных рогачей навозных. Рябое крупное лицо скрипача, взятое крупным планом, было как водонапорная башня, истекающая потом. Симфоническая мутатень! Я б их всех на земляные работы. Гражданин был горбат. Лежащая прямо на столе лысая голова с вьющейся бородой смахивала на отсыревшего осьминога. За стеной у меня жил вот такой же. Дипломированный. Каждый день с утра и до позднего вечера начинала ходить его сра… скрипка. Как злой, одинокий, отгоняемый комар за стеной у меня жил. Никак не мог пробиться сквозь стену, найти меня в темноте и впиться. Осьминог доглотал пиво и, точно от симфонического этого оркестра, от ряшки скрипача – пошёл прочь. К тому же оказался хромым – опирался на клюшку. Лысина его со спины была вроде испит?го светила. Пугая Человека В Молотах, Мим вдруг заиграл как изверг. И вздрагивал и отшатывался Зонов-музыкант. Точно всё ещё получал пощёчины от горбатого. Что он такое только что сказал?! Как он посмел?! Не обращайте внимания, тов. Зонов – тундра. Музыкант тут же подхватил, тут же начал внедрять масштаб тундры, а заодно и лесотундры, во все пространства Советского Союза. В-вы понимаете, что происходит в нашей жизни?! В какой-то момент Серов и Дылдов увидели нового гражданина в Забегаловке. Гражданина, можно сказать, тоскующего, мученика. Длинный, но с маленькой медной головёнкой, он старался не смотреть на кружку с пивом на своем столе. Отворачивался. Ну, этот сейчас блеванёт так блеванёт! Однако гражданин вдруг выхватил чекушку и круто запрокинулся. Чекушка колотилась как какая-то дьявольская белая сверловка! На глазах всверливалась в Гражданина вся как есть, без остатка! Казалось, уходила прямо со стеклом! Гражданин долго выдувал из себя газ. Как автоген в ожидании спички. Однако никто поблизости не решился чиркнуть. Через минуту глаза Автогена – склинило. «Шёл по улице Тверской, Меня ё… доской! Это что за мать ети – Нельзя по улице пройти?!» Автоген качнулся было к Флягиной, но – забыл. Ещё через минуту он начал длинно вытягиваться. Под косым углом к полу. Так и покачивался, точно не решаясь пасть. Его поволокли. В комплекте со всеми шлангами. Медная головенка шипела, болталась у самого пола, точно искала, что бы такое на прощанье поджечь. Кружка осталась стоять на столе. Нетронутая. Как поминальная. Батоны, вдвоём, скорбно её унесли. Потеряв человека, Забегаловка перевела дух и вновь монотонно забурлила. Головы в дыму напоминали виноград. Грозди. Выкинули нас, други, почти на болоте – и вертолёт сразу снялся. Залопотал, залопотал, уходя за сопку вверх. Будто взбесившаяся ёлка с одной болтающейся игрушкой. Мы в лямки, в рюкзаки – и пошли ломить тундру, и по-ошли! Придёшь к нему в сторожку – бульдог рядом с ним сидит. Этакое Самое Красивое Печальное Страшилище. Ну, как живешь, спросишь хозяина. И хозяин отвечает как всегда: «Серёжка пьет понемножку!» Своим прозвищем. Бывший баянный мастер. Продал труп свой, скелет, Томскому мединституту. А за сколько? – не говорил. Хитрый Серёжка. Никак не мог от неё отвязаться! Никак! Всё перепробовал, всё применял. И вот приводит он ее в ЗАГС. И говорит, мол, вот бабульку привел. Решил на ней жениться. А та стоит, молчит. Верхняя губа уже – как укроп. А он опять, вот, мол – бабулька. Пятьдесят два бабульке. Не выдержала тут она, в морду ему – и ходу из ЗАГСа. Так он три квартала до дома бежал. Веришь? Бежал! Как бежит и базлает японец в Марше Протеста. Дескать, банзай! банзай! Вот так только и отвязался от неё. С женщинами держи ухо востро! Как говорят вроде в Мексике, собачьему визгу и женским слезам верить нельзя. Всегда могут обдурить. Да. «Я тебе, дорогой мой, навеки не тр-русы, даже се-э-ердце отда-а-ам!» Я про Семенова скажу. На другой день вижу – а он палкает по деревне. И как ни в чём не бывало! Как будто он – это не он! Всё, что натворил вчера вечером – забыл! Вот дела-а. Как будто не было истошно орущей жены, которая застряла на колу плетня, как на шампуре; как будто не было визжащих свиней на подворье, когда за ними бегал и избивал палкой. Как будто ничего не было! Палкает себе! Шесот рублей! Шесот! Меж выбитых коронок высвистывала удручающая фистула. Сэлых шесот! Ну и куда вы дели их? Пропили. На масасыкл, на масасыкл были приготовлены! А бухло там будет? Да будет, будет! Тогда лей, не жалей, гневаться не буду! И вот клянчит у жены: достань граммуличку! Та его костерит. В хвост и гриву. А он всё ноет: достань граммуличку. По башке получает, лупят чем ни попадя, и опять: достань граммуличку. Тьфу! Отмахнёт палкой и к обочине укажет. И надо видеть потом, как он к машине идёт, к выскочившему шоферу – важно, абсолютно не торопясь. В деревне своей свиней пас, а здесь, в городе, он – власть. Власть С Палкой. Идёт, вышагивает! Как сказал один еврей, если реклама вже не врёт – это вже не реклама. Вот так-то! Да он же постоянно в замызганном халате! В пресловутом халате слесаря-сантехника! Или грузчика из гастронома! Вроде бы жалкая, ничтожная одежонка, тряпичка перед тобой, но надежней, крепче этого несчастного халатика – индульгенции на свете нет! Будь у тебя хоть сто дипломов в кармане, ты в сравнении с ним – ничто! Его же ничем не возьмешь, вы понимаете?! Он же Мрак В Кепке! Да ещё в халате! Вы понимаете?! В халате!!! Ну а этот высокий всегда, гордый. И нос у него – как голубь сизокрылый. Николай, скажи! Точно. Как голубь, можно сказать, лазоревый. Рак – это болезнь несбывшихся желаний, уважаемый тов. Зонов. Болезнь тщеславных, гордых людей. Тихое постоянное их переживание. Болезнь тихого длительного стресса. Ну не выдержал – вмазал. Прямо в наглый его мандат. Будет, гад, теперь знать. А месяц, Роберт, смахивал на откинувшегося на локоть, мечтающего чабана посреди своего спящего стада белых барашков. Муж и жена. Уйгуры вроде бы. Он – здоровенный башибузук. Живот, несомый кривыми ножками – как ладонь. Как большая его услада. Она, наоборот – худенькая. С симметрично вздёрнутыми глазами белки. Хитрю-ю-ющая. Промышляют возле коммисионок. Химичат там чего-то, перепродают. Да знаю я её! Вот уж воистину: бодливой корове бог рогов не дал! Слесарь. Конкретный мужик. Не бухает, ничего. Мотор, ходовую часть. Всегда вовремя, никогда не подведёт, как по часам. Пол-Москвы его уважает. Конкретный мужик. Хватит мною помыкать! Я – ей – говорю. А то. А то в морду дам. Да нет! Куда уж тебе! Как говорится, сбылась мечта идиота. Это – к вопросу о твоей женитьбе, дорогой. Врач сказал ей: не думайте о своей болезни! Улыбайтесь! – И она – улыбается. Улыбающаяся на улице старуха. Как полоумная. Улыбки направо, налево. Всем встречным. Как бредущий гроб со съехавшим набок венком. Улыбайтесь! И она улыбается. Да, уж точно – он может прикинуться шлангом: ходишь, запинаешься, а не видишь. Он никогда не виноват. Всегда он как бы в стороне. Но я ей сказал: если – ещё – хоть – раз. Да куда уж тебе! Ждём. Пенсионер на Запоре пропердел. И снова всё тихо. Пошли. С фомками. Опояски с замками – выдрали. Как бычьи яйца. Ну тут палка о двух концах – пьяница проспится, дурак – никогда. Так что – не скаж?те. Как горн в вечерней кузнице – остывает закат. А потом, когда падает темнота, в бесконечно тянущихся тучках начинает журчать луна. Красота-а. Пейзаж – это настроение, Серёжа. А настроение – это скрытая мысль. Вот почему он нам свои пейзажи выдает. Даже сам, наверное, этого не осознавая. Душа его просит этого. Душа. И всё. А ещё одна моя соседка – четвёртая по счету, получается – так лет семьдесят ей уже, наверное. В квартире почти не вижу. Больше на бульваре. Ведомому под руку внуку, как дикому огороду, нравоучительно что-то напевает. Огород неудобренный, можно сказать, неполитый – благодать, есть где развернуться! Постарше-то дети – шугают: пошла, старая дура! Не мешай жить! А внучек-то – в самый раз! Так и уведёт его от меня, напевая ему. Сама приземистая, в острых косых брюках – построенная вся внизу косо. А у меня вот и такого огорода даже нет. Человек В Молотах от старости и одиночества выморщился радиально – как китаец. Только очень грустный китаец. Да, вот и такого даже нет. В телевизоре с его ералашами вдруг зачем-то стали показывать операцию. В натуральном виде. В операционной. Развороченная грудь больного – как мясная лавка. Слепое заголившееся сердце походило на начавшиеся роды у женщины. Зачем показывают всё это? С ног до головы заляпанные кровью хирурги. Грудятся у стола, суетятся. Все в намордниках, со сморщенными бахилами на ногах, в специальных халатах с завязками. Точно из Гражданской обороны все они. Из химической атаки. Серов уводил глаза, не мог смотреть. Кузбасс морщился, тоже пересиливал себя. Точно теряя сознание, снимающая камера вдруг начала пятиться, уходить. Последний раз мелькнула утесненная, многорукая, судорожная группка врачей посреди сплошь закровавленной чистоты операционной – и всё исчезло. Точно вся бригада телевизионщиков грохнулась в обморок! Вот так пока-аз. Георгий Толпа отирался платком. И все-таки нет, наверное, на свете прочнее механизма, чем сердце, Роберт. Как только представишь, сколько миллионов, сколько миллиардов ударов делает оно за жизнь твою – утром, днем, вечером, ночью – без перерыва, не останавливаясь ни на минуту – как только представишь всё это – сразу хочется лечь, сложить на груди ручки и самому до времени умереть. А как переходят дорогу дети? Пацанята там, девчонки? Коротко стриженная голова карлика-таксиста походила на обрезанный щекастый кувшин. Они не переходят, они – бегут. Всегда бегут. Дорогу перебегают. Даже на зеленый. У них же рефлекс: дорога – значит, бежать, рвать через неё! И ни одна гаишная тётка не объяснит им, не втолкует, не вобьет в кретинские их головёнки, что делать этого нельзя ни в коем случае! Категорически! Остановись, замри, если ты уже на дороге. Но не беги, кретинок! не беги! не беги! Таксист-карлик подпрыгивал и бил в мрамор стола ладошкой. Точно ловил, точно уничтожал на столе порхающую бабочку! Не беги! не беги! кретинок! Осьминоги – те похожи на гаишников. Натурально. Стайки мелкой рыбешки, как по команде, шмаляются от них. Чудище вроде замшелой избушки проплывает мимо, шевеля плавниками. Окунь, что ли, такой? Тут же какие-то шахтеры постоянно зарываются в песок. И всё это заполнено солнцем. Даже не верится, что это всё на дне океане происходит. Щёки просвещающего Селянина тлели как лампы. Или такой случай. На дороге. Таксист тоже не отставал, рассказывал. В прошлом году. Весной. Рву в Домодедово. Заряжен полностью – четверо в машине. Жму под сто. В тридцати метрах впереди идёт иномарка. Толстуха. Дальше, метрах в ста, у самой обочины стоит крытый грузовик. Возле него ни души. Дверцы закрыты. Мы жмём, приближаемся к нему. Вдруг дверца грузовика раскрывается – и пыжом вылетает на дорогу человек. Выпинули! Пьяного! Иномарка тут же его под себя – и пошла молотить! Я по тормозам, завихлял, заюзил, поздно – в иномарку! В меня сзади ещё кто-то! Там ещё! Свалка! Кто мог такое предвидеть?! Кто?! Мучающиеся глаза таксиста точно опрокидывались назад. Таксист схватил кружку. Как лагун, неостановимо начал пить.
Наступило время связных монологов. Партконференция как бы. Очередь к трибуне. Выступающие теснятся. На конном дворе всё переломано, всё покурочено. Голова Селянина от болезни витилиго была точно вне туловища. Подожжённая, точно пылала на подносе иллюзиониста. Рассыпаны тележные колёса. Сама телега без колёс – застряла в земле. Кучи навоза гниют. Давно пересохли. И ведь полгода только после развала прошло, всего полгода! Но, главное, главное – последний директор хозяйства был по фамилии Ответчиков. Ответчиков! Как вам это нравится! Вот так Ответчиков оказался! А города внизу – как жабы под луной! Ласковый Селянин с культпросветучилищем всё не мог наудивляться жизни. Переливаются, дрожат своей мокрядью. И вроде как – глотают, цапают мошку! Точь-в-точь! Пока летел – не отрывался от окна! А все – храпят. Храпят! Да-а, моя мама. На глазах менялась карта на лице Кузбасса. Лицо Кузбасса как-то сползало. Доставалось ей в этом парке. Все аллеи, все тропинки, газоны с цветами – всё было на ней. Метёт с утра, с обеда стрижёт, поливает. В последнюю очередь шла мыть уборную в углу парка. Привычно уже вышибала из мужского отделения оловянноглазого, сказать так, гражданина. И тот убегал от неё, застёгивая ширинку. Убегал со своей роковой страстью, как с чугунной двухпудовой гирей меж ног, по меньшей мере! Нам-то смехота была слышать крики, грохот в уборной, видеть потом улепетывающего этого орла, а ей каково? Женщине? Матери? Но самое главное – тяжёлая эта работа в парке. С утра и почти до темноты. Помогали, конечно, когда не в школе: подметали тоже, я любил клумбы поливать, но в основном ломила, бедняга, всё сама. Всю ночь шёл снег. А на другой день + 6! Представляете, что началось! На дорогах – жидкое снежное месиво! Машины фонтанируют как киты! Сплошь уделывают друг дружку! Лобовое стекло перед тобой – Тарнада! Сплошная Тарнада! И ты, шофёр, как жулик, пригнулся. Да где пригнулся! Таксист-карлик как бы совсем опрокинулся на сиденье своего такси. Круто задрал голову. Точно стремился разглядеть эти чёртовы путеводные звезды, по которым ему теперь нужно рулить. Но сквозь «тарнаду» ничего, понятное дело, не видел. Похожая на очень длинноногое насекомое с присадисто ритмичной походкой грузчицы. Говорил Человек В Молотах, насаженных на рукояти. Всегда идёт с двумя длинными мешками бутылок через плечо. Один спереди, другой сзади. Идёт легко, присадисто, как будто со своими лёгкими длинными яйцами насекомого, которые только что сама и выродила. Хотя и старуха уже по возрасту. Лицо уже – как зяби. Вот такая моя пятая соседка! Человек В Молотах С Рукоятями был явно умилён своей пятой соседкой. Которая ходит с бутылочными мешками – как со своими выродившимися яйцами. Слова были обращены как всегда к Миму С Гитарой. Однако Мим с гитарой по-прежнему был нем, туп. Статичен. Как целый суд присяжных придурков из американского фильма. А потом стали замечать в ней странное. Остановится вдруг посреди работы и стоит минут десять. И руки батраками висят. А мы подойти боимся. Кузбасс всё ниже и ниже опускал голову. Бугор этот сразу задрался на меня багровой плешкой. С кем разговариваешь, расп…й?! А я ему: да положил я на тебя! С прибором! Понял? Пидор! И пошёл к двери. Так он упал в кресло и хавало разинул! Компашка Плацдарма от хохота на миг развалилась и вновь сдвинулась. Даже Пиратский Парус смеялся. Смеялся дико. Как инквизитор. После шестидесяти болела тяжело. И сердце, и ноги. И вроде совсем повредилась умом. Кузбасс всё не мог забыть свое, горестное. Во всяком случае, многих из родни не узнавала. Или просто не хотела узнавать. Понимаешь? Временами появлялось в ней что-то осмысленное. И смотрит на тебя – как смотрят старики. Глазами неприбранными, измученными. Как разорёнными гнёздами! Господи, Роберт, всё бы отдал, чтобы только жила! Руки Кузбасса – отёкшие, сизые – вздрагивали, что-то ковыряли на столе. Тяжело смотреть, Роберт, как умирает самый близкий тебе человек. Твоя мать. Мама. Отсечённая белой простыней голова с сивыми свалявшимися волосками на подушке – и всё. Как нечёткое, размазанное факсимиле на подушке. Мёртвое факсимиле. Тяжело смотреть! Невыносимо! Кузбасс заплакал. Некрасиво, трудно. Наши писатели опять одуплели. Не могли дышать. Маленький росточком, Красный Леденец бегал ручонками по могучим плечам, перед лицом Кузбасса дрожал как перед адом. Не надо, не надо! Гоша! прошу тебя! не надо! Кроме Серова и Дылдова, никто, казалось, не осознавал трагедии громадного этого человека. Тяжело рыдающего рядом. Разговоры текли. Вроде бы обтекали стол с Кузбассом. Чайки. Большие. Какая-то крупная порода. Сплывают по реке как каравеллы. Да-а. Неблагодарный оказался. Свин. Тут как по присказке: хозяйка б…, пирог г…, и вообще – е… я ваши именины! Да-а. Приглашай вот таких. Завитая по головке как пуделёк. Белый. А сколько красоты вмещает в себя сердце голубятника. Он видит весь мир, весь необъятный свободный мир у себя над головой, когда поднимает голубей в небо. Как поющим горном жизни – становится стая его в небе. Вот какое сердце у голубятника. А вы говорите – пустое занятие. Да, действительно. Перед этим необъятным миром – мы остаёмся только у подножья его. Мы проходим. Проходящие мирки людей и животных. У подножья необъятного мира. А-а, голод не тётка: пирожка не подсунет! После того, как узнал бедный мальчишка о смерти матери – целый день скрывался где-то, плакал. Вечером глаза прятал от всех, и глаза его были как зори. Притом летел я с крыши как-то медленно и спокойно. Как во сне. Точно знал, что не разобьюсь. И только удивлялся: ах ты чёрт! Как же так получилось? И не расшибся! Хрястнулся только боком, приняв себя на руки и сильно ударив зад, бедро, всю ногу. Но был цел! Жив! Ничего даже не сломал! А ведь метров десять было высоты, не меньше! Вор у вора дубинку украл. Ну и долбаки! Японский автомобиль с никелированными трубами впереди. Чем-то напоминает русский самовар. Такой же самодостаточный и гордый. Видал? Да дыхательный тренажёр! Новый выдумали! Сидят в поликлинике рядком, как придурки-саксофонисты – и дуют. Ходил всегда как апока. Как последний апока! А как женился – совсем другое дело! – на человека стал походить. Но ведь свинье-то лужу надо! Вот так с ним и вышло. Приглашай, как говорится, таких в гости. Да тощая. Тощая. Как вобла. Как скелет воблы! Осенью улица наша вроде как елозит прямо вниз, к речке. Как загулявшая пьяная баба. А справные дома, будто свёкры, её матерят: тпру, зараза! Хе-хе. На лыжах теперь не бегают красиво. Нет. На лыжах теперь телепаются. Новым дурацким способом. Нараскоряку. Рупь-двадцать! Рупь-двадцать! А церковь была богатая: высокая, белостенная, каменная. С несколькими куполами. Вся – как сбитое неразрывное братство апостолов. И такую красоту загубили. Когда подорвали – просто сползла. Как Атлантида в море, ушла в землю. Придёт, бывало, в сельпо – и говорит всегда с юморком: Партейное есть, дочка? Есть, есть, дедушка! По 1,85! Ух, и дорого партейное! Ух, и дорого! И смеется. А самому уже за девяносто было. Приехали домой, а малины в ложках – ураган! Сразу же поспешили, начали обирать! Эти играют там всегда, как их? – теннисисты. Мячики, будто белые серпы, летают-втыкаются. Интересно, а ни черта не поймёшь. На первом этаже – кабак. Самого ансамбля, самой мелодии оттуда никогда не слышно. Сквозь этажи туго тукает один только бас. Как вздрюченное сердце алкоголика, нажравшегося-таки водки и табаку: тук! тук! тук! тук! Спать – невозможно. Стоит всегда как обезьяна: ссутуленно. Растопырив грабки. И как обезьяна начинает бить этими грабками. Быстро-быстро садит по мордам. Такой метод. Широкоскулая и узкоглазая как кошка. Марлен Дитрих. Помнишь по фильмам? Иномарка всегда впереди мчится. Впереди всего кортежа. Так сейчас у них принято. С понтярскими высвистами несется. Как голубятня. А вывеска на мастерской: Двери, лоджии, гробы. Только – гробы-то зачем?! На балалаечке всегда свиристит печально, занудно. Поселок «Свеча». Вроде в Кемеровской области. Не слыхал? А вот баба на телеге показалась. Сарафаном слившись со свежескошенной копной травы. От этого – сама как громадная копна. Или девочка бежит. Платьишко-ситчек-весёлый смеется! Юрий Приборов. Юра с прибором! А эта – Замолодчикова. И вот с утра вся в телефонах! И вот названивает, и вот пищит! Лет пять назад, тов. Зонов, тоже пришли ко мне две. Как говорится – по рекомендации. Две невесты. 55-57-ми лет. Крашеные рыженькие головки обеих напоминали жгуче-анодированные венички. Если таковые существуют в природе, конечно. Очень приятно познакомиться! Осклабился как крокодил. По-очереди пожал две сухонькие ручки. Употребляете? – сразу спросила одна, увидев бутылку на столе. Что вы! что вы! Махаюсь руками. Только для аппетита! Хе-хе-хе. Эксперты! Смотрю на него, а он уже с теряющим сознание лицом! Растянувшимся, как резина! Еле успел подхватить! Или на речке, Роберт. После ныряний, после всевозможных нырков – мальчишка. Запрыгал на берегу на одной ножке. Затряс головёнкой – как тугой копилкой. То в одну сторону трясёт, то в другую. То на левой ножке прыгает, то на правой.ё Тугая-то она, тугая копилка, но быстро освободилась – ветер опять внутри засвистел! Где, кроме деревни, такое увидишь? Серов вздрогнул – в телевизоре стали показывать чёрно-белый революционный бред: невидимый пулемет откуда-то сверху, с крыш, дробно тряс площадь: та!та!та!та!та!та! Муравьиная чёрненькая толпа разбегалась, стелилась и ползла по этой белой от ужаса, трясущейся площади: та!та!та!та!та!та!та!та! Серов отвернулся. Когда снова взглянул – из телевизора в упор, точно весь вместившийся в разинутый раструб, играл негр-трубач. С выпученными глазами – точно вылезал из материнской матки! Какой-то Луи Армстронг. Чёрт! Куда девалась площадь? Глянул на кружку. Кружка, как и положено ей, стояла на столе. Почти полная. Дылдов вяло дожевывал сосиски. Тоже с почти полной. Может, хватит нам? Лёша? А? О чём ты, Серёжа? Однако Серов замолчал. Потому что тоже с пивом шёл новый персонаж. Шёл не торопясь. Словно сберегал силы. Так ходят с развальной ленцой спортсмены. Отправляясь из гостиницы на стадион. Если, конечно, близко идти. Кружки расставлял за столиком Профессора и Музыканта. В бумазейной какой-то кофте бабьего покроя. Широкий, как хоккеист. Однако принадлежал, по-видимому, к художественному цеху. К художникам. Потому что сразу, что называется, взял быка за рога. Придёшь к этому Ферхо, а он сразу палитру на руку – и кисточку уже прицельно держит. Как соплю. На отлёте. Дескать, – работаю. Мазнёт по холсту разок. И ещё разок мазнет. И откинется, всматриваясь. Ферхо ср…! А у самого за ширмой – побоище бутылок на столе. И полуголая девка сидит. Вся красная – как сатана. Рембрандт хренов! Триста рублей, гад, выклянчил. Вроде как занял. Музыкант Зонов заметно занервничал. Геннадий, я отдам. Да не о тебе речь! Пей лучше. Роберт Фон Караян! Широкий двинул кружку. К Зонову. Профессор проследил за всеми этими телодвижениями с высокой бровастой закавыкой. Однако Широкий стал заливать в себя пиво. Тогда Профессор продолжил рассказ. Набирал обороты постепенно, осторожно. Собачонок. Кличка – Людвиг. Маленький. С заросшей мордашкой. С болтающимися катухами шерсти по брюху – будто с еловыми шишками. А вообще у Мамы их всех, кабысдохов этих, штук десять. Она идёт в гастроном, а они трясутся вместе с ней вроде флажков. Как дорогу показывают. Людвиг с катухами – впереди. Естественно – ни с ней никто из жильцов, ни она ни с кем. Стена. А ведь лет сорок всего Собачьей Маме. Не работает. Шизофреничка. Иногда выводит и оставляет всю свору во дворе. Что-то долго втолковывает Людвигу. Обиженно Людвиг отворачивает мордашку в сторону. Наконец сама уходит куда-то на несколько часов. Кодла поскуливает, но держится вместе. Как подтопленная. Как оказавшаяся на островке. Часа через два начинает выть. Людвиг задает тон. Капельмейстер как-никак. Чуют её издали. Только ещё на её подходе ко двору. Срываются и летят. И уже во двор опять успокоенные флажки трясутся. Флажки вокруг Мамы. Пытался заговорить с ней, но идёт мимо – глаза выкачены, остановлены. Как предупреждающие кулаки: не подходите! не трогайте! в морду дам! Как к такой подойдёшь? Сумасшедшая, в общем-то. Только собаки и спасают её. Странные всё же люди живут вокруг нас, тов. Зонов. Очень странные. Не перестаешь удивляться. Широкий-как-хоккеист толкнул кружку. К профессору. Пей! Спасибо. У меня есть. Профессор толкнул кружку обратно. Зонов пошептал что-то Широкому. Тот прослушал и пошёл к стойке. Вернулся с тарелкой сосисок. Ешьте, Профессор! От души! На сей раз Профессор не заставил себя уговаривать, тут же приступил. Однако зубов во рту у него почти не было, и губы от этого действовали своеобразно. Как бы сообразуясь с принципом червячной передачи. Так совокупляются деликатно змеи. Сначала в одну сторону сверлятся, затем обе в другую. Очень вкусные сосиски, надо сказать! Очень вкусные! Не желаете, тов. Зонов? Кадык Зонова передёрнулся как затвор. Однако Зонов замахался руками. Что вы, Евгений Александрович! Ешьте, дорогой! Поспешно отпил своего удою. От голода глаза Музыканта бредили, мучились, как два еврея из Моисеевой пустыни. Которые, выбравшись из неё вконец издыхающими, так и не поняли, за что их по ней таскали. Однако Профессор не настаивал. Профессор, видимо, не догадывался, что Музыкант тоже голоден. Помните – Кейтель? Подписывал капитуляцию? Этакий хлыщ военный с моноклем? Как с индифферентным каким-то секретарем в глазу? Подписал – и сбросил этого секретаря? Так этот Шредер такой же! Только он – очки всегда сбрасывает. Как двух уже секретарей! Двойной Кейтель! Хе-хе-хе. Немцы, одно слово. Зонов не понимал, о чём говорит Профессор, Зонов не мог оторвать глаз от сосисок в тарелке. Да поешьте вы, тов. Зонов! Право слово! Мне даже неудобно! Будто нищий на чужом пиру, Профессор за столом распоряжался. Широкий-как-хоккеист однако его полномочия подтвердил. Ешь, Зонов! Ещё возьму! Лишь только после этого Музыкант деликатно взял пару сосисочек. И хлеба кусочек. Но когда черпанул малюсенькой ложечкой горчицы – рука задрожала так, что пришлось ложечку отложить. Отложить на тарелку. Выступили слёзы. Да ешьте, ешьте, тов. Зонов! Тогда заглотил. Так, без горчицы, без хлеба. Сразу обе. Горячие. Сильно горячие. Вытягивал шею, страдал как верблюд со слюнявой губой. Которому сунули в рот чёрт-те что. Часто-часто стал жевать и проглотил, наконец. Ну вот, другое дело! Профессор был доволен. Снова пододвинул Зонову тарелку. В свою очередь, единственным зубом, как альпенштоком – куснул от сосиски. И опять будто гонял губами совокупляющихся змей. А в общем-то, весело я теперь живу, тов. Зонов. Дом бетонный – всё слышно. Каждый вечер надо мной аккорды в гитару заталкивают. Знаете, такие сыпучие. Вон как у того гитариста. Хрух-кррух! хрух-кррух! И запели. И целый вечер перелезают с песни на песню. На одной проедут, неизвестно откуда – другая, они на неё все дружно! А там третья подошла, четвёртая! Как мальчишки раньше на трамвайную колбасу запрыгивали и ехали! Висят, не отпускаются: хорошо! весело! И гитара неутомимо аккорды в себя запихивает! Вот так и живу теперь – как у туристского ночного костра. Хе-хе-хе. Горохов! Геннадий! Выкинутая рука Широкого над столом была как длань, простёртая богом над долиной. Профессор осторожно, двумя ручками, пожал её. Широкий-как-хоккеист не знал, что дальше говорить. А в общем-то, по-прежнему был недоволен Ферхо. Этим ср… Ферхо! Потому что все натурщицы, которые к Ферхо этому приходят – с телами лет на десять моложе своих лиц. Лет на двадцать! Можете такое представить?! Сам, что ли, выбирает таких?! Или Союз таких присылает?! Собутыльники почтительно ждали. Ждали развития темы. Темы натурщиц. Но Геннадий Горохов молчал. Волосы его, волосы художника, были как истёртое мочало. Со спины, из-под кофты, бутылку выдернул как гранату. Забулькал всем. Сунул кружкой в кружку Профессора. Потом – Зонова. На всех картинах его и клубятся эти чёртовы женщины. Имелся в виду, конечно, пресловутый Ферхо. Бело-розовыми облаками. Однако с мордами – как лишаи. Рембрандт, называется! Триста рублей гад, занял. «Халтуру сделаю – отда-а-ам! Гад!» Зонов забеспокоился опять. Горохов простёр руку. Не о тебе речь! Снова хмурился В телевизоре по-прежнему почему-то преобладали негры. Шли почему-то косяком. Полю Робсону как будто сильно дали по уху. Он так и пел с рукой на нём. Дескать, бобо! Ведь жена не рукавичка: с белой ручки не стряхнёшь и за пояс не заткнёшь! Роберт! Потный плащ Кузбасса был как дождь. Как небольшой локальный дождик в Забегаловке. Слышишь, Роберт! Однако встряхиваемый Вандоляк уже, похоже, ничего не слышал. Глаза его были глазами таракана, хватившего дихлофосу. С трудом освободился из рук Кузбасса Вандоляк. Потом – от стола – вдаль – сморкнул. Из одной ноздри. Вроде бы интеллигентно. Применив для этого длинный указательный палец. Затем методом академика Павлова сжал на столе кулачонки. Сцепливая зубы и перекашиваясь – проявлял сильную волю. Вандоляка нужно было срочно выводить. Это было очевидно. Однако после того, как Кузбасс быстро стаскал его в туалет – резко протрезвел. Точно его починили там. Вот только что перед этим на лице была полная хлябь, раздрай, и вот, пожалуйста: лицо опять стало пятнать солнышком. Чудеса! У самого Кузбасса пространства в голове были большие, места хватало для всего: и для гулкого топота конниц, и для спокойного журчания рек. Да-а, Роберт. Семейная жизнь. Вроде видения, миража прошла. Бывало, не спишь. Супруга рядом храпит. В полной тьме кот скрипит как диван. Это он вылизывает свои я…. Красота-а.
Тоже косея, Серов и Дылдов уже заметно покачивались. Уделаны были чужими разговорами как кашами. Однако всё вслушивались. Как вслушивались бы, наверное, стукачи. Ну и, понятно, писатели. Будто длинную ласту, плавник, Дылдов даже вытягивал свой знаменитый блокнот. Ну, чтоб поплавать с ним, чтоб «эх, записать бы». Однако банальности жизни на пространствах Забегаловки преобладали. Наблюдалась вялотекущая, вялобурлящая статика в ней. Требовался поворот сюжета на пространствах её. Поворот неожиданный для всех, резкий. Козлы-ы-ы!!! Боги услышали стукачей и писателей. Пиратский Парус вдруг начал хватать и бить своих собутыльников! Всех троих! Влепил одному, хуком опрокинул другого. Один Батон полз, второй пятился, закрывался локтями. От пинка улетел Маленький Плацдарм. Настоящий вестерн! Настоящая драка в салуне! Один из Селян, который с культпросветучилищем, вдруг полностью преобразился – пошёл на Пирата натурально по-блатному – и пальцы веером, и сопли пузырём! Ща я тебя! Сэка! В натури! Мгновенно звезданутый в мусатку – улетел под чей-то столик. С-сэка! Парус, казалось, один бил всех! Невероятно! Бросив посудный ящик, сиганула куда-то старушонка-уборщица. Сиганула, как козочка! Как козочка белая! Какой-то миротворец с пивом тут же с лету врезался в этот ящик. Следом ещё один прилетел туда же! Широкий Как Хоккеист примерялся ударить Пирата, ходил вокруг, но всё как-то промахивался. Кулаком. С тугим тумбовым звуком получил во всё лицо, но устоял. И снова ходил-примерялся. Да что же это такое?! Как спасая всех, поверженных и стоящих, вдруг заиграл на гитаре Мим. По шести струнам пальцы бегали невероятно мучительно! Бегали как по колючей проволоке! Как по молитвам всех зэков! Прекрати! Мим зажмуривался, топался ногами. Прекрати-и-и! козё-ё-ёл!!! Пиратский Парус офонарел. Отпала челюсть у Пирата. Мим, оказывается, умеет говорить. И даже кричать слово «козёл». «Козёл» – это я, что ли? Пиратский Парус ринулся к Миму. Однако бесстрашно прыгнул Парусу на спину Маленький Плацдарм. Охватил, стал давить шею. Пират рычал, разматывал пиджак Плацдарма с чекмарями у себя за спиной как гремящую винную лавку! У-убью! Изловчившись – сбросил. Вертанул Плацдарма к себе и ухватил за горло. Сверху. Двумя чудовищными клешнями. Натурально душил! С глазами – как с выскочившими гадюками-медянками! Тогда только бросились люди. Серов, Дылдов, ещё несколько человек. Начали долбить Паруса по башке, отдирать от Маленького Плацдарма. Затем пинками гнали к двери. Парус точно разваливался, терял руки, ноги, терял свой идиотский плащ. Из Забегаловки вылетел – как из катапульты камень. КАЗЛ, отсеклось только дверью. Победители шли мимо Буфетчицы за свои столики вроде бойцов Самообороны. Бойцов доблестных. Они сделали свое дело. Да, сделали. Тяжело дыша, не теряя ни минуты – булькали в кружки. Нисколько не скрываясь. «Засорился карбюратор, Не работает стартёр, И вылазит из кабины в ж… ё… шофёр!» Разрядка! Катарсис! От хохота гнулись, ломались, сталкивались лбами, расплескивая пиво направо-налево. Ну, Анька! Ну, шалашовка! Да якуня-ты-ваня! И никто почему-то не видел, что Буфетчица уже накручивает диск телефона. Что сутулящаяся полная спина её в нетерпении подрагивает под тонким матерьялом, точно её, спину, как хороший шмат сала, только что хорошо отбили молотком. Милиция! Это милиция? «И вылазит из кабины перема-а-азанный шофёр!» Ещё думая спастись, Анька Флягина вроде бы перекаблучила частушку. Всунула в неё словно бы кожзаменитель. Слышь ты, заср…ка? Чего накручиваешь там?! Буфетчица закрыла глаза. Буфетчица считала до десяти. Так считает секунды космонавт перед стартом. Прежде чем рвануть в пустоту. Чего считаешь-то там? Засеря? Флягина вдруг увидела милиционеров. Почему так быстро-то? «Полюбила Ваню я, Полюбила без х…я. На х…я такой мне Ваня, Когда с х…ми до х…я!» Топающаяся, Флягина являла собой катастрофу. Натуральную красненькую катастрофу! Красненькую, казалось, от пузца и до макушки! Её повели. Милиционеры были значительны в своей миссии. В сапогах, подпоясанные, высокозадые, как женщины. Флягина запела широко, эпически. «Вдогонку палят – Недолёт, перелёт, И раненный в ж… Чапаев плывёо-о-от. Урал, Урал-река, Могила его глубока-а-а». Милиционеры вели. Серов не выдержал, бросился на помощь. Выручать! К-куда?! Дылдов догнал, ухватил в последний момент. Куда?! Вместе с ней захотел?! Мучаясь, словно разучившись, Мим без разбора заиграл на гитаре. Заткнись! Кто-то не дал Миму играть. Когда дверь захлопнулась, в изнеможении Буфетчица стащила наколку с головы. Башка её с волосьями стала походить на болотную кочку. Батоны ещё какое-то время размахивали… батонами. Плацдарм удивлённо покручивал головой. Лицо Селянина менялось, заново строилось, чтобы снова стать ласковым и просветительным. В общем, камень булькнул, волны быстренько разбежались – и телега поехала по берегу дальше. У казахов есть хорошее слово, тов. Зонов. Которое они говорят женщине. «Айналайн». В дословном переводе: «верчусь вокруг тебя». Верчусь, как волчок. Это гораздо сильнее, чем у русских. Гораздо сильнее, тов. Зонов. Или представь, Роба, – вечер. Всё затихает в розовых полях. Далеко вдали тополь одинокий стоит. Как обидевшийся мужик. С калёным, неостывающе вздрюченным глазом. Разве можно мне забыть такую красоту, Роба? Два брата. Оба сапожники. Оба скукоженные всегда за своими сапожными лапами. Один с чёрными, без единого седого, волосами. У другого – у младшего – словно совесть белая по всей голове повыскакивала. Вот вам – два родных брата. И по характеру так же: старший – наглый, каких свет не видывал, младший – совестливый. Выпивает. Нет, это не седьмые мои соседи. Просто знаю их, и всё. А что, разве не интересно? А вообще-то я не знал, что вы умеете говорить. Разговаривать. Извините. Да пожарником всю жизнь работал! Пожарником! Такой же носатый! Они же все носачи. Не замечал? Храпят, но носами водят. Чуть что, запах дыма или чего – сразу срываются и летят на машинах. Вроде обойм медных патронов. А? где? чего тушить? где горит? мы – вот они! всегда упредим! потушим! где воняет? сгорело уже? н-ничего! головёшки раскидаем к чёртовой матери! Пришли к нему, а у него на столе уже плачет, слезой исходит бутылочка. Водочки. Огурчики здесь же, помидорчики. Умилительная для нас картина! Как говорится – хороша ложка к обеду! А яичко к Христову Воскресенью! Ну, конечно, приступили. Верно я говорю, Николай? Да погоди ты! Ведь по сути дела, в пшеничном зёрнышке, как во всем земном шаре, сбиты, спрессованы все войны, все революции, все страсти, вся борьба людей за место под солнцем! В одном-единственном пшеничном зёрнышке! Мы теперь в городе этого не замечаем, не понимаем, напялили на него множество одёжек, так что и не сразу доберёшься до сути! А в деревне – вот оно! – на земле, целое поле колосится, так сказать, голой правдой. И тут уж видать: кто есть кто. Это почему у тебя столько, а у меня столько? А?! Почему так?! Гад, кулак, кровосос ползучий?!! И пошло! и пошло! И полетели головы и проломленные черепа! А в городе это всё смазано. Триста рублей, гад, должен. Для сатисфакции заводит позавчера в ресторан. Дескать – выпьем! Я плачу! А все дорожки в ресторане в каких-то подозрительных пятнах. Как в натюрмортах экспрессионистов. Рвота размазанная, наверняка! Самый дешёвый ресторан, гад, выбрал. Ф-ферхо! Или ещё наблюдаю из своей коммуналки: каждое утро, часов в семь к воротам рынка подъезжает бортовой раскрытый грузовик. И всегда он полон этих самых гагаузов, или как их там. Быстро слезают, спрыгивают на землю. Суетятся вокруг мешков со своими семечками. Голодной голубиной однородной стаей. Кто их привозит? Откуда они? Да любопытно мне, любопытно! Вам же вот охота на своей гитаре брякать! Ну и брякайте! Почему же мне нельзя смотреть в окно?! И вот как ребёночек заплачет – он кидается. Забирает его из кроватки – баюкает. В длинных голых руках своих – как мартышечку в лианах. А она – храпит. Храпит! Серёжа, нам пора. Я – хорош. Несмотря на непроходящее ещё, даже усиливающееся опьянение, у Дылдова и Серова уже начал зреть пресловутый похмельный синдром или, говоря по-русски – величайшая похмельная досада. Зачем всё это было? Эта пьянка, затеянная сразу после издательства? Для чего? Что от этого изменилось?! Ощущали уже оба проклятые эти вопросы. Однако Серов упрямился. Н-нет! Ещё подождём! Голосок его почему-то стал визглив, тонок. Угнетённенькие глаза вспыхивали. Как какие-то фантасты. Что-то должно произойти! Шкурой чувствую! Ну, шкурой так шкурой. Дылдов смирился над кружкой. Лицо рассказывающего Кузбасса почему-то стало казаться ему только что выскочившим из-под стригаля умилённым бараном. Как перемена зазвенит – во двор высыпают раздетые ребятишки. И пошли снежками резать утреннюю туманную оттепель марта! Наступление! Отступление! За мной! Ур-ря-я-я! Да-а. Красота-а. Господи, Георгий! Когда видишь, что твой ребёнок, твой сынишка счастлив от какой-то безделицы, от какой-то там игрушки, которую ты ему купил – сердце сжимается, наворачиваются слёзы. Господи, что ждёт его впереди? Какие жестокие разочарования! Жестокие бесчеловечные обиды! Несчастья! Потери! И ты ничем не сможешь помочь ему. Ничем. А сейчас вот счастлив он от твоей игрушки, от пустяка. Господи, Гоша! Ну-ну, Роба. Не надо об этом. Прости меня, Роба. Мне легче, чем тебе. Я не оставил после себя детей. Мне легче, Роба. Прости. Господи, Гоша! Счастлив был от какой-то безделицы! От какой-то машинки! От обезьянки! И что стало с ним сейчас! Господи, как такое перенести! Дылдов вдруг отклячил губу. Дылдов заплакал. Это он обо мне говорит. Обо мне! Серёжа! Это я! я теперь такой! Однако глаза Серова уже ороговели. Как улитки. Серов, походило, отрубился. Пальцы тарабанились на столе сами по себе. Самостийным паркинсончиком. Слова произносились уже не Серовым, кем-то другим. Человеку словно привязали к затылку хриплый репродуктор. А я, я, Лёша! Катька! Манька! Дочки мои! А я, я! Я пью! Репродуктор внутри ущербно хрипел. Я гад, гад! Однако никто особо не обращал внимания на большие трагедии маленьких этих людей, двух молодых и двух старых. Тем более и стояли-то они за разными столами. Телега ехала и ехала себе дальше. Да где, уважаемые москвичи, где-е! Какая у вас жизнь? Изо всех сил тянетесь, тужитесь! Жить пытаетесь под набалованные стереотипы Запада! Пытаетесь – а не получается! Вот в чём ваша драма-то! Аэропорт в черте города. Название – Северный. Расположился на взгоре. Постоянно взлетают брюхатые Анны. Рёв стоит – в квартире стаканы на блюдцах пляшут! Как ещё не грохнулась ни одна на город – одному богу известно. Да где! Где! Чего! 150 рублей-то ваши тут в Москве?! Да вы же богатенькие нищие! Нищие! Только богатенькие! И всё! Не грусти, Роба. Всю жизнь человек готовится к чему-то, примеряется, монотонно раскачивается. Топчется на одном месте. Как привязанный на цепь за ногу в зоопарке несчастный слон. Вот и жизнь вся его. А тут пенсия, старость, болезни – и не жил вроде, а только на цепке и качался. Чего ж теперь, Роба. Верно, друг, говоришь. Вся жизнь наша теперешняя – в одно слово: гони! Гони, пока не упадёшь. Мы все – в Садовом кольце находимся. Газуй со всеми в общей лаве. У светофора остановишься, чуть отдышался, и снова врубай скорость! Жми до посинения! Да меньше оглядывайся! А если по-другому – сомнут, сшибут, в кювете окажешься. Да чего там говорить! Вот такая вам картина, дорогие горожане: бежит с громадным рюкзаком за спиной последний опоздавший пассажир. Бежит к вот-вот уйдущей электричке. За ним болтаются из рюкзака сосиски. Гирлянда. Чуть не до земли! В последний момент – влип. Успел. Двери сомкнуло. Поезд сразу пошёл, унося сосиски – как выпавшие кишки человеческие. Как человеческие внутренние сущности. О чём это говорит? Да это же жизнь наша теперешняя, наглядная, несчастная поехала! А я меру знаю. Всегда. Упал – хватит. Вот скажи: ты бабу гоняешь? Гоняю! Я тоже гоняю! Мы молодцы! Выпьем за это! Звук сдвинувшихся двух кружек походил на хруст треснувших двух черепков. После этого полагалась падать замертво. Однако два раздолбая мотались, не решаясь это сделать.
Дым плавал под потолком, навешивая свои длинные бороды телевизору. Входная дверь вдруг опять приоткрылась. В образовавшуюся щель всунулась голова. Голова оскаленно безумная. Вроде пустотелой тыквы, светящейся изнутри. Чтобы пугать по ночам слабонервных. Козлы-ы! Голова торчала из верхнего угла двери. У Пирата словно выросли непомерно ноги. Пират словно пришёл на расправу со всеми на ходулях! А-а! Козлы! Испуга-ались! Не сговариваясь, человек десять ринулись к двери. И Серов с Дылдовым в том числе. Сейчас мы тебя! Голова исчезла. Послышался шум разваливающихся ящиков и шмякнувшегося тела. Коззлыыы. Опять шли за свои столики доблестно. Опять смело наливали. Правда, уже не сопровождаемые частушками Флягиной. Жаль. Большая потеря. Потом с ногой на железном ободе под столом стояли в позах самозаводящихся мотоциклов. Однако никто никуда не двигался. И не собирался двигаться. А я здесь, в Москве, в Отрезвителе побывал. Так говорил же! Второй раз побывал. Всё равно – культурно, чисто. Каждому простыню чистую дают. Приятно. Внимание. Если первого Селянина с болезнью витилиго можно было бы сравнить с купоросом, с медным, или того пуще – с соляной кислотой, то друг его был как бы раствором смягчающим. Нейтрализующим. И одновременно очень сильно объединяющим. Типа с2н5он. Когда начинаешь пить пиво – не загадывай, где окажешься. Вот как сегодня. Где мы будем потом – никто не знает. Культпросвет Селянина был непобедим, светился. Скажи, Николай. Да погоди ты со своим пивом! Ведь паразит – он же вертится! Всю жизнь! Крутится! Поймите! Голова, подожжённая витилиго, торчала над всеми – уже будто бы из костра инквизиции. Он хлопочет! На базаре ли, в магазине за весами, на торговой базе. В кабинете ли там за столом. У него забот – полон рот! Ему некогда передохнуть! Но он же не становится от этого тружеником. Не становится! Поймите! Чтобы полюбить, Роба, женщину, лучше её не знать. Понимаешь? Не жить с ней рядом до женитьбы, не работать в одном месте. Мужики в основном так и устраивают это дело. Свою любовь. Ищут женщину в дальней стороне-сторонке. Пусть человек думает, что он открывает что-то свежее, необычное. Неповторимое. Пусть. Это – как не знать день своей смерти. И, кстати, женщины тоже стремятся уехать куда подальше, где их никто не знает. Понимаешь? Темнят всю жизнь. А иначе – какой же рядом-то козел позарится? Дылдов и Серов молчали и только таращились. Вроде пьяных тренеров. Давали как бы игрокам на поле – играть. Эх, записать бы. Да где ж тут? Человек в Молотах, насаженных на рукояти, пил одно пиво. Без всяких чекмарей. Вторую или третью кружку. Был, собственно, трезв. Не хотел я вам говорить про седьмую мою соседку. Но – скажу. Вы уж извините. Тоже абсолютно трезвый Мим перестал наигрывать, выпрямился, насторожился. Так вот. Извращенка. Бывшая воспитательница детдома. Оттуда, видимо, и пошло всё у нее. Заманивает мальчишек. Лет десяти-одиннадцати. Вроде как племянники любимые к ней приходят. Однажды увидел. Не подумайте – случайно! Лежит. Пацаненок голожопенький работает. А у дамы шестидесяти лет глаза закрыты. Притемнённая, морщинистая вся – как смерть! Но кайф ловит. Кощунство над природой величайшее! Бабушка русской проституции! Зачем вы мне это рассказали? Пальцы Мима на гитаре напоминали уставших червей. Просто так. Чтоб вы очухались, наконец. Заговорили. А не только брякали. Мне что – гитару о вашу голову разбить? А это уж как вам будет угодно. Свободным стал совершенно! Свободен! Полностью! С неожиданным подъемом говорил один из Батонов. Даже припухлость лица у него уменьшилась, ушла куда-то. Счастливым стал, можно сказать! Вот только душу саднит, когда о мальчонке своем вспомню. О сыне. Как ударит всегда. Сердце сожмёт. Вот тут, други – беда-а. Если не выпьешь, хоть в петлю. Всегда вспоминаю, как уходил. Уходил с чемоданом. Во двор уже вышел, а он с пятого этажа, из балконной двери, из-за стекла ручонкой машет. Часто-часто. Боится, что не увижу. Вот тут – тяжело стало. Врагу не пожелаю такого пережить. Так и стоит в глазах – машет, машет. До смерти не забуду! А так – что ж – вольная птица я теперь. Батон удрученно склонил свою плюху. Не расстраивайся, Коля. Плацдарм похлопал его по плечу. Перемелется. Всё перемелется. Не мешкая, забулькал. Пиджак превратился в хурджум. Запали. Все трое. Отдыхивались. Плацдарм посматривал по Забегаловке. Не горюйте, други. Скоро двинем на юга. А уж там заживем. Да какая молодежь, Евгений Александрович! Ладно – про серьезную музыку не буду говорить. Ладно. Оставим это. Другой пример, совсем другой! На телевидении готовили передачу о Пушкине. Обратите внимание – Пушкине! Говорили о дуэли. И вот оператор или помощник его, спрашивает – «Это что-то с женщиной там связано было? Вы представляете?!» У меня глаза закатились под лоб! Да милый мой, да ведь это знают в третьем классе! В детском саду, наверное! А? Человек наверняка учился в институте! Не говоря уже о школе! Вы представляете, что происходит, Евгений Александрович?! Дремучее бескультурье! Дремучейшее! А я вам другой пример приведу, тов. Зонов. Профессор не сдавался. В одном университете одной из национальных, скажем так, республик, в каждой аудитории – обязательный портрет. На обязательном портрете – национальная гордость аборигенов. В одном лице – поэт, философ, музыкант, композитор. В чёрной тюбетейке. Лицо размером с пороховой бочонок. Каждый балашка его знает. С трех-пяти лет. Каждая кызымка. Вот вам другой пример, уважаемый тов. Зонов! Да это же внешний результат правды, Евгений Александрович! Внешний! У Музыканта слюни полетели на бороденку и в пространство. За пределами правды! Вроде бы правда, и в то же время – неправда! Вранье! Понимаете?! Как бульканье шумовика в радиоспектакле! Мы думаем – ручей. Журчит. Натурально журчит. А на самом деле – хитрюга-шумовик только переливает воду из бутылки в корыто. Или, наоборот – из корыта в бутылку. А мы уши развесили – ручей журчит! А весной, Роберт, где-то к концу марта, по обочинам дороги, с обеих сторон, выгнанные школьники лопатками брызгаются на дорогу льдистым снегом. Пирамидальные тополя – будто поставленные дворниками грязные мётла. Воздух чистый, прозрачный. Красота-а. Знаешь, Роба, тогда ещё не было оголтелого конформизма, какой везде сейчас. Каждый город, каждый городок имел свое лицо. Неповторимое лицо. Просто в них, в городках тогдашних, не очень знали: как и что у соседей. Отсутствие картинки, отсутствие телевизора – спасало. Ну а сейчас разве что старые части городов кое-где сохранились. Вроде резерваций индейцев. А остальное – сам знаешь. Кузбасс остывал. Кузбасс словно отдыхал от всей сегодняшней пьянки. Цинковые волосы на его голове сложились в пропотелые мускулы. Мускулы уставшие. В университете том, тов. Зонов, никто меня, конечно, не узнал. Не узнавал, точнее сказать. Забыв про еду, Профессор стоял обиженно. Нацменики мои, которые в рот мне когда-то заглядывали, стали тугими теперь, важными. Настоящими нацменами. Все взросшие на баранине, на кумысе. С руками ленивыми, короткопалыми – как с тёмными колобашками теста. Теперь все доценты, профессора. Идя по коридору, где я стоял, смотрели мимо. Сквозь меня. Один, слабонервный, не выдержал –кивнул. Но тут же – куда-то сгинул. Как сквозь землю провалился. Однако всё равно стало как-то обидно. Так и вышел на крыльцо тихо. А мне товарищ рассказывал, пенсионер. Селянин с болезнью витилиго словно подхватил слова Профессора, хотя и стоял от него далеко. На пенсию провожали. На заводе у них. Сразу человек десять. Скопом. Удобно. Ну, собрание, конечно. Этому, говорит, телевизор цветной, тому холодильник, а мне транзисторный приёмничек! За пятнадцать рублей! Обиделся смертельно! Ну, где тут искренность, теплота? И с той, и с другой стороны? И у тех, кто дарит, и у тех, кто получает подарок? Притворство, фальшь. А ведь все просто: не принимай подарков, не бери ни от кого – и всё. И душа будет спокойна. Но падок человек на дармовщину, слаб. Прошёл я в тот раз, тов. Зонов, и мимо Главного Здания Города. Где когда-то вручали мне, а потом отбирали Билет. На площади перед Зданием по-прежнему дрожала на асфальте ущербнёнькая тень московского Кремля. Те же башенки, стенные зубчики. Ничего, собственно, не изменилось в этом городе, тов. Зонов. А вообще-то неблагодарные они все, тов. Зонов. Всё им построили, города, заводы, всему научили. Сделали профессорами, доцентами, учеными. Просто неблагодарные, и больше ничего! От свалившейся ли дармовой еды, от выпитого ли раньше времени чекмаря – Профессор катастрофически пьянел. Наблюдался полный обвал человека. Несмотря на девственность Фудзиямы, лицо его, тесно объединившись с носом, стало цвета стойкого нарыва. Ни о какой нежной морской волне, ни о каком меняющем цвета кальмаре – и речи теперь не шло. Сплошной, стойкий нарыв! К тому же в каждом предложении, которое он произносил, голос не то чтобы обрывался и умирал, а имел как бы некоторые усиления и затухания. И если бы все предложения Профессора изобразить графически, то они походили бы наверное, на неуверенных, ползущих неизвестно куда гусениц. Или по-другому – походили бы на баян: то ли разворачивающийся, то ли сдвигаемый. Зонов-музыкант страдал. На глазах уходил интереснейший собеседник. Более того – уже стоя засыпал. И каждый раз вздёргивался и шарахался, когда просыпался. Чёрт побери! Евгений Александрович! Что же вы! Очнитесь! Однако Профессор только пьяненько смеялся. Хихикал. Уже только пытался говорить. Нижняя губа его елозила вроде примеряющегося аркана: бросать или не бросать? Белые волосы вокруг фудзиямы растрепались, торчали перьями. Нужно выводить! Широкий-как-хоккеист был безапелляционен. Насадил на Профессора шляпу. Зонов, выводи! Зонов заметался было, но – повел. Точно от стыда, ратиновая спина Профессора окончательно лопнула, стала походить на растерзанную птичью клетку. Зонов вёл осторожно, бережно. Всё время оглядывался на свою кружку. На свою кружку с удоем, оставленную на столе. Вернулся очень быстро. Чего же ты?! Широкий был удивлён. Бросил, что ли? Нет, нет, что ты! Спрятал в укромном месте. Пусть отдохнёт. Подышит воздухом. Минут через пять приведу. Отпив из кружки, Музыкант оглядывал Забегаловку. Как привычный свой театр. Как большую свою сцену, которую он ненадолго покинул и на который сейчас начнется вторая часть пьесы. Чуть не опоздал! Однако разговоры на сцене еле тлели. В телевизоре, как в аквариуме, выпускал пузыри диктор. Возле Буфетчицы никого не было. Буфетчица тряпкой вытирала стойку. Для всех наступило время каких-то неуверенно строящихся, вялых композиций, мизансцен. Актёры словно ждали команды, чтобы начать строиться в композицию-мизансцену всеобщую, панорамную. Чтобы увековечить, наконец-то, и себя, и всех, и всю Забегаловку. То есть – весь Театр. Все вроде бы не знали теперь, чего друг от друга ожидать. Наступило всеобщее благодушие в Забегаловке. Этакая умиротворенность, благостность. Вроде как бы тихий ангел над всеми повис… Буфетчица… рукой мазнула по выключателю. Люминесцентные лампы включались по потолку как налёт авиации… Все смотрели, вывернув головы… Вдруг побежали. Разом. Как тараканы. Побросали кружки, еду. И Серов с Дылдовым в том числе. Кузбасс летел будто воздушный шар. Дёргал за собой Леденца как мальчишку. Широкий Хоккеист сшибал, работал плечами. Устремляющаяся бороденка Музыканта походила на развод погибающих спермачей. Весь гамуз колотился в дверях. Под музыку гитары. Было без пятнадцати семь…*
* Ни в одном из гастрономов Советского Союза в 1980-ом году водки после семи часов вечера купить было невозможно.
37. «Такси! Такси! Успеем!»
Выскочившие из забегаловки Серов и Дылдов твёрдо помнили, что до ближайшего гастронома бежать два квартала. И рванули было со всеми… Однако сразу увидели (ясно! ясно!) приближающуюся эту, как её? ну мигалку! мигалку! синюю мигалку!
– Такси! Такси! – заорали. – Успеем! Повезло!
Выволакивая друг дружку на проезжую часть, друзья замахали мигалке. По-прежнему крича:
– Шеф! Сюда! Сюда! (Успели! Повезло!)
Уазик послушно остановился. С двух его сторон спрыгнули сизые два человека. Серов и Дылдов сразу пошли в разные стороны. Их догнали, состукнули вместе и, как болтающихся кеглей, повели к машине. К уже раскрытой задней двери. И они топтались возле двери. Потом полезли как мыши в мышеловку, точно перепутывая вход и выход. Им дружески помогали, подталкивали.