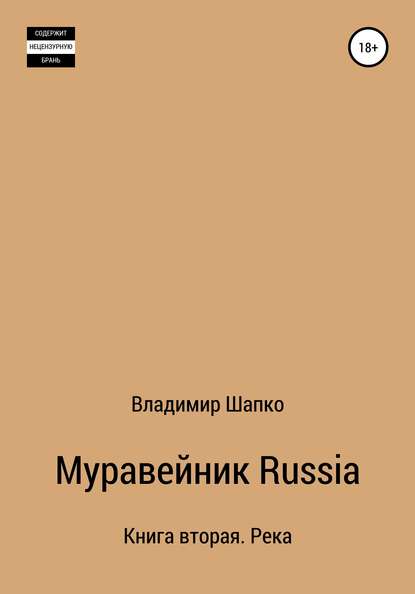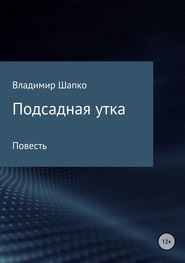По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравейник Russia Книга вторая. Река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пожилая проводница принесла чай.
– Что же ты, парень? Из Москвы, что ли, попёрли? Кто ж в такие дни уезжает из неё. Все наоборот сейчас рвутся в Москву. Всеми путями. А ты – надумал!
– Да уж надумал! – смеялся Новосёлов. Прямо-таки счастливый.
Согревая руки о чай, смотрел на недвижный тонкий растёк солнца у горизонта, на несущуюся закруживающую черноту полей Подмосковья. И, конечно, не мог уже видеть и слышать, как в оставленной, уходящей всё дальше и дальше Москве, в это же время текли в стадион Лужников колонны невыспавшихся, раздражённых людей, одетых в одинаковые майки. И стадион, встречая их, как вывернутый мегафонный зазывала вдарял по розовому небу песней:
Я – ты – он – она – вместе дружная Страна!..
До открытия Олимпиады оставалось два дня.
42. Родина
После Благовещенска, Благзавода по-местному, с верхней палубы речного трамвая Новосёлов уже не уходил. Катер быстро чухал вниз по Белой, обгоняя течение, словно тащил с собой всю реку.
Мимо плыли красивые берега с зелёным спокойным простором. Леса, поля, снова леса, большие поляны, застенчивые деревеньки, выглядывающие из густой зелени деревьев и кустарника… Внезапно объявился на середине реки островок. Сплошь в остром тальнике, словно плот с нетерпеливо теснящимся войском. И вновь разрывные, на километры, желтеющие поля, снова лес и какая-нибудь деревня с обширным выгоном у реки, с обалдевшим за день стадом на нём и пастухом… Наступал вечер. Уже бежала за судном дорожка закатного солнца. Солнце норовило догнать и взобраться по ней на судно, чтобы слепить всем глаза. Бесцветным мотыльком трепался на корме просвечиваемый флажок.
Внизу, в салоне речного трамвая, вовсю гуляли сквозняки. Шторы по окнам можно было бы сравнить с длинноштанными матросами, выделывающими кренделя. Однако пассажирам от долгого сидения в креслах было уже не только тесно, но и душно. Некоторые не выдерживали, выбирались из кресел. Поднимались по ступеням на верхнюю палубу. К воздуху, к ветерку. Ходили, разминали ноги.
Неподалёку от Новосёлова стояли две женщины средних лет. Похожие друг на дружку, наверное, сёстры. Не видя летящей воды, всего бельского простора вокруг, они всё время плакали, прикладывая платочки к глазам. Их открывающиеся ноги из-под взметливых лёгких платьев стояли на палубе как длинные веретёна. К сёстрам подходил плотный мужчина в песочном пиджаке спортивного покроя. Он похлопывал-гладил их по плечам (ну, полно, дорогие! полно!), утешал. Сам облокачивался на палубный поручень и как-то быстро, легкомысленно перекидывал ноги. Ставя одну позади другой. Точно в нетерпении приплясывал. Точно испытывал зуд перед предстоящей пляской. Однако лицо его плачуще морщилось. Расплюснутый нос-хоботок, нос боксёра на пенсии, тоже пошмыгивал. Мужчина беспрерывно курил.
Из приносимых ветром слов Новосёлов узнал, что умер у них Дорогой Валера (брат? чей-то сын?), что едут они на его похороны. Всё это почему-то очень волновало пожилую женщину, похожую на овцу. Прерывая ходьбу, она останавливалась позади скорбящих, смотрела какое-то время, – и глаза её становились инфернальными, адовыми. Точно сама она уже была свалена на песок и с ужасом ждала заклания.
Неожиданно спросила. У Новосёлова. Почему к городу Бирску нет железной дороги. Молодой человек? Промышленности в нём нет, заводов, нехотя ответил Александр, удивляясь защитному «прыжку» женщины в сторону. В сторону от неприятного. А долго нам ещё плыть, не унималась седая овца. Молодой человек? Да нет, вот за этой излучиной город и появится. За этим поворотом реки – видя, что не понят – разъяснил Александр. Держась за поручень, смотрел на берег. Три дуба раскинули ветви, как проповедники руки. Вдали за лесом, в русской деревне Масловке вдруг пошли озорничать вечерние колокола. Седая вздрогнула, повернулась к Новосёлову. Церковь, пояснил тот. (Дескать, не опасно.) В это время две рулевые фуражки под стеклом кабины впереди как-то разом пригнулись и расшиперились. Как крабы. Перед поворотом реки – как пред добычей… Седая женщина перевела дух, полезла в люк, в салон, к своим вещам.
Фуражки не зря накручивали рулевое колесо – за поворотом, вдали, город и обнаружил себя. Окраина на обширной горе походила на очередную деревню у реки: с низко просвеченными домишками, огородиками, садами. Однако на вершине горы, у самого неба, будто всадник без головы, скорбно пригнулся собор без купола. Торчала там же пожарная каланча, больше смахивающая на привилегированную какую-то вышку на зоне. Ровные же ряды окон трехэтажного пединститута – под лавой солнца – можно было сравнить, наверное, с рядами какого-то небывалого музыкального инструмента, типа развёрнутой гигантской гармони, зеркально играющей сейчас солнцу всеми своими планочными голосами и подголосками. «Голосами и подголосками», надо полагать, – знаний. И глядя на всё это, несведущие пассажиры могли теперь смело сказать, что не деревня это вовсе, – город.
Новосёлов мало смотрел на дома и домишки, взгляд его искал под горой причал, где когда-то швартовались «Бирь» и «Сим». Увидел наконец одну пришвартованную баржу. Но грузовая ли это самоходка или какой-нибудь нефтеналивной танкер – из-за дальности разглядеть было ещё нельзя.
Когда подошли ближе – сердце Новосёлова забилось – это была «Бирь». Точно. Обшарпанная, сильно постаревшая, с названием на носу почти стёршимся, однако сразу узнанная, родная…
На палубе возила шваброй какая-то женщина. С одной закатанной штаниной трико, другой упавшей, чёткой, олампасенной – вся грузная, как маршал. Замахивала шваброй, будто косой – справа-налево. Больше никого на барже не было. Новосёлов перевёл дух, вытер лицо платком. Пошёл, стал спускаться в салон. Однако там все уже вскочили и копошились с вещами. В салоне разом стало тесно, непроходимо. Новосёлов вернулся на палубу.
Уже подходили к дебаркадеру, но две женщины не трогались с места. Только чаще стали прикладывать платки к глазам. Ветер по-прежнему трепал их легкомысленные платья, высоко заголяя расставленные веретенообразные ноги. Однако головы их уже были покрыты чёрными косынками. Мужчина с расплюснутым носом в беспокойстве выглядывал из люка, почему-то смотрел на Новосёлова, точно просил его, чтобы тот привёл сестер к нему, мужчине. Ведь подваливаем к причалу… Александру стало тяжело. Отвернувшись, невидяще смотрел на вечерний, уже громыхающий музыкой ресторан «Речник»… За спиной дуновением прошли две женщины…
От пристани в гору, к центру, наладили регулярный автобус. Однако Александр не стал давиться в него. По длинной тянучей Карла Либкнехта пошел пешком. Дома и домишки справа и слева стояли ступенчато, одни над другими. Возле музыкальной школы – остановился. Опустил чемодан на землю. Конечно, юные музыканты были распущены на каникулы, однако из раскрытой форточки одного из окон доносилась музыка. Играли на пианино или рояле. Щемящая мелодия «Осенней песни» Чайковского как долгий выдох выходила из форточки к низкому небу, задерживалась там на какое-то время и вновь уходила, затихала в классе за окном. Играл кто-то очень хорошо, хорошим проникновенным звуком. Наверняка взрослый, профессиональный музыкант… И сразу подумалось о своем, казалось, неразрешимом. Сможет ли Ольга, окончив консерваторию в Москве (Московскую консерваторию!), работать в такой вот музыкальной школе в четыре окна на улицу. В школе почти сельской. Сможет ли в ней просто учить детей музграмоте. Всему начальному, элементарному. Петь с ними сольфеджио, стучать карандашом ритм… Возможно ли такое перевоплощение для нее?.. Большой вопрос.
Новосёлов всё слушал летящие к небу звуки, не уходил. Когда растаял в небе последний аккорд, подхватил чемодан с намереньем идти дальше. Но к окну подошла сама пианистка. Полная женщина в обесцвеченных кудрях, точно в пышной столярной стружке. Смотрела на вытянувшееся вдаль небо, просвеченное закатом. Словно искала там, в розовой дали, звуки, отпущенные ею на свободу. Так высматривают улетевших вдаль голубей, голубиную стаю. Новосёлова внизу на земле – не видела. Новосёлов деликатно пошёл с чемоданом дальше. Однако, поравнявшись с высоким окном, зачем-то кивнул. То ли поблагодарил за музыку, то ли поздоровался. Женщина с удивлением кивнула в ответ. И тут же стала вспоминать: знает ли она этого высокого мужчину с чубом и чемоданом?
Такой же вопрос поставили себе сидящие на скамейке старушки. У домика с веселыми оконцами. Этакие четыре бесформенные квашёнки со скрещенными ножками, затиснутые в застиранные ситчики. Они, старушки, жизни свои прожили. Да, прожили. Приверженные реализму, они теперь проживали в лицах жизнь других. Знакомых, соседей, родных, дальних родственников. Да вот даже этого парня, идущего сейчас по дороге. Чей же он такой долговязый да чубатый будет? К кому идёт с чемоданом?
Одна сразу сказала, и без ошибки – Тоньки Лукиной сын. Машинистки из райисполкома. Точно. Он это. Её долган. Приехал вот. С пристани идёт. С вечернего речного трамвая. Ага.
Проходя, Новосёлов невольно взглянул на лицо говорящей… однако вспомнить – кто она: чья мать, чья бабка – не смог. В некотором смущении поздоровался со всеми. В ответ старушки благодарно закивали: «Здравствуй, милый, здравствуй!» Поражаясь могучести парня, долго выглядывали с единой скамейки вслед. Как с единого насеста куры.
На площади ничего не изменилось. Всё так же обезглавленный собор сорил в гаснущее небо голубями. Кособочилась обломанная с краёв трибунка, куда по-прежнему пробивали молнии котов. Тянулся ряд приземистых лабазов-магазинчиков, старинных, еще купеческих, по окнам и дверям уже в железе на ночь.
В пивной, куда Новосёлов зашел купить папирос, пивники стояли у столиков по колено в закате, как научную фантастику оставив в мягких тенях наверху свои гальванисто мерцающие головы.
Один из них, морщинистый, как море, говорил: «Ну, кому что, а шелудивому – баню». Другой, с головкой в виде козюля от спички, с ним спорил: «Э не-ет, Коля! Кто любит попа, а кто – попадью!» Девушка в мужской кепке и рубашке, с парой пива перед собой, с ними соглашалась: «На безрыбье – и рак рыба, ребята». Не без гордости ожидающе смотрела на собеседников. В раскрытом рту её, среди сплошных коронок, по-доброму царила аура тюрьмы и лагерей… Послушав своего, народного, родного, купив в буфете папирос, с улыбкой Новосёлов вышел из пивной. Уже повис в облаках бледный месяц, смахивающий на гастрономного курчонка. До дома оставалось два квартала. Прямо, потом повернуть.
В эти минуты Антонина шила, сидя у стола. Поглядывала в телевизор, где во французском фильме молоденькая героиня (Анни Жирардо)… опять была брошена на постель. Уже другим хахалем (третьим или четвёртым?). Аж головёнка подбросилась на подушке, как мятая какая-то фляжка… В очередной раз голова женщины брякнулась с небес (романтических) на грешную землю, где мужчинам от женщин нужно было только одно… Антонина вздыхала, жалела неудачливую Анни. Которая никак не могла найти себе мужа. Или постоянного хотя бы сожителя… У серьёзного старающегося хахаля ротик был раскрыт как у окунька – набок… Антонина начинала смеяться, отворачиваться от экрана…
– Ну, вот я и дома, – тихо послышалось от порога…
Антонина вскочила. Бросилась…
Резкая седая прядь волос через всю голову матери резанула Новосёлова по сердцу. Как глубокий порез была она, как шрам после лихого ножа… Прижимая плачущую родную голову к себе, от давящих горло слёз Новосёлов не мог говорить…
Они присели к столу, он гладил её руки, а она всё плакала, покачивала головой, точно винилась перед ним в чем-то, каялась. Гладко зачёсанные волосы её растрепались, седая прядь не казалась уже шрамом, а всего лишь белым лучом, рассыпавшимся по её темени…
Потом она начала бегать. Из комнаты на общую кухню и обратно. Когда он уже ел, а она традиционно подперлась кулачками, из коридора прилетело: «Антонина – телеграмма!» Она сорвалась, выбежала в открытую дверь. Вернулась с телеграммой. Вот, прочитай. В телеграмме было жирно пропечатано: «Буду в Бирске 27-го вечером Александр». Сын посмотрел на мать, помотал телеграммой, точно определяя вес её – а?
Они хохотали долго, освобождённо, откидываясь на спинки стульев. «Раньше времени припёрся домой, мама! – выкрикивал Александр. – Надо было где-нибудь погулять!.. Ха-ах-хах-хах!..»
Для приятного запаха Антонина любила прокладывать стопки чистого постельного белья в шкафу сушеной лавандой. Не перебарщивая однако, умеренно. Поэтому, как только Александр лёг и коснулся щекой подушки на своем диване – сразу услышал этот запах. Запах детства своего, юности, запах своего дома. Казалось, что он забыл его, потерял навек, и вот он вернулся, словно вновь обретённый, найденный. Уж теперь-то он, Новосёлов, действительно дома!
Долго не спали, говорили в темноте. Новосёлов пытался расспрашивать о Бирске: о родных, знакомых, о работе матери, наконец. Но та, отвечая коротко, необязательно, всё время сворачивала на Москву, о которой Новосёлову говорить не хотелось. Он вставал, курил у раскрытого окна. Луна давно ушла за дом, и двор с сараями воспринимался как оставленная на ночь на сцене декорация, тускло высвеченная сверху, приходящая в себя после спектакля, пустая. Бессменным причиндалом заливалась за сараями собачонка. Мать и сын слушали её какое-то время. Потом с затемнённой кровати мать вновь спрашивала сына: «Что же ты уехал из Москвы, Саша? Ведь восемь лет в ней прожил? Скоро бы, наверное, квартиру получил? Ведь тебе обещали, ты писал? Неужели всё из-за друга? Из-за гибели его?»
Новосёлов смотрел на сараи. Спящие сараи казались слепленными из картона, из папье-маше…
«И да, и нет, мама. Серёжина смерть ударила меня, ошеломила. Всё это так… Но с гибелью его, особенно после похорон – погибло многое и во мне… На кремации не было ни одного человека с работы, где он оттрубил столько лет. Ни одного! (Я, Кропин Дмитрий Алексеевич и ещё один друг Сережи, Дылдов – не в счёт). Ни одного человека из редакций, издательств, куда он тоже ходил не один год. Хотя я звонил им всем, оповещал. Профком не дал вдове ни рубля, ни копейки! (Это как?) Не было ни венка от коллектива, ни цветочка!.. Вот только после этого я и сказал всем чугунным рожам: всё, ребята, баста, точка – не по пути!»
Новосёлов затянулся несколько раз. Постоял, проглатывая всю свою горечь, боль. Заговорил снова:
«И потом, если честно: ничего не складывалось у меня самого в Москве. Ни в личном, ни на работе. Из меня упорно делали надсмотрщика, погонялу работяг. За верную службу, может быть, и дали бы чего: комнатёнку там какую в коммуналке, постоянно бы прописали. Да я вот рылом не вышел, как оказалось. Ломал себя восемь лет, курочил, вверх ногами ходил, как определил однажды Сергей, а всё оказалось пустым, зряшным. Оказалось дымом…»
Новосёлов уже лежал на диване: «…Москва давно капиталистический город, мама. Там никому ни до кого нет дела. Там каждый мышонок грызет свой сухарь, ни с кем не поделится… А здесь люди простые, не испорчены ещё, доверчивы, так что место мое в самый раз здесь».
Антонина спросила про Ольгу: а как же она? Она же москвичка. Неужели приедет сюда? Мать даже приподнялась на локоть, пытаясь разглядеть лицо сына.
«Не знаю, мама. Если честно, я сам не очень верю в это… Поживём – увидим…»
«Эх, невезучий ты, Саша, невезучий в любви… – Антонина откинулась на подушку: – Такой же, как и я…»
Новосёлов удивился, хотел спросить – почему? Почему она-то несчастливой оказалась? Неужели ей плохо было с отцом?.. Но удержался, не стал лезть в душу.
Утром завтракал один. Мать давно была на работе. Хмурился – почти до десяти продрых. Отпивая из стакана мелкими глоточками горячий чай, смотрел на фотографии на стене. На фотопортреты.
Портрет отца, Константина Ивановича Новосёлова, главенствовал на стене. Между двумя другими – находился прямо в центре. Может быть, от этого Константин Иванович несколько самодовольно улыбался. Два других портрета были и поменьше, и какими-то не относящимися к нему – главному портрету на стене. Антонина слева отчужденно смотрела в сторону. Получалось – в сторону от мужа. На Сашкиной фотографии был один только чуб, а из-под чуба – Сашка… Тоже непонятно чей пацан…
Общую фотографию на стену этой комнаты так и не повесили. Просто не было такой фотографии в этом доме…
Вечером, когда Новосёлов спросил у матери, почему не снялись все втроем при жизни отца, Антонина сразу заплакала: «Ты прости меня, сынок. Я виновата в этом, я!.. Так и не смогла распрямить свою жизнь. Так и прожила с мужем двенадцать лет, пригнувшись… Прости…» – «Что же ты – людей, что ли, боялась, мама?» Антонина плакала, не отвечала. Конечно, чтобы сняться в том же фотоателье, нужно было идти по улице, идти вместе, втроём, как бы чинным неторопливым семейством. На глазах у всех. Потом садиться под фотообъектив, улыбаться… Для матери ли это было всё? Для неё ли, живущей тогда «подпольно» с чужим мужем? Хотя сам Константин Иванович таскал сына с собой всюду, как только появлялся в городке… Не стеснялся, не прятался…
Новосёлов гладил плечи матери: «Ну, будет, мама, будет… Всё хорошо…» – «Прости, сынок, прости…»
Успокоившись, вытирая платком глаза, Антонина сказала: «Нам надо на кладбище сходить, сынок… Пусть Костя услышит, а может быть, увидит, какой у него стал сын… Сходим ведь?..» – «Конечно, конечно, мама, обязательно!»