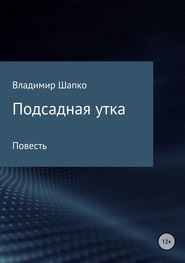По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Синдром веселья Плуготаренко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Неожиданно Наталья сердито прервала её:
– Я не заманивала вашего сына. (Чуть не сказала – он сам лезет.) Я предлагала сделать ему ключи. Он отказался.
– Конечно, если относиться к нему, как к коврику у порога, тогда – конечно. Какие уж тут ключи? О чём вообще тогда говорить!
Наталья молча пошла дальше. Вера Николаевна задохнулась от такой наглости. Тоже пошла. Ничего не соображала. Весь разговор длился минуту, полминуты, несколько секунд. Два ветра столкнулись, перемешались и вновь разлетелись в разные стороны. Да что же это такое! Да как она смеет!
…Сидела и говорила в «Снежинке». Герман Иванович ел солянку. После разрыва с Зимиными он один только слушал её. Давно без жены, без домашней еды, он обедал здесь каждый день. Его все тут знали. Вера Николаевна торопилась, говорила, забывая про кофе, который он ей заказал. Он предлагал и ей пообедать, но она отказалась, сказав, что уже дома поела. Он был замечательным человеком. Он слушал. Вера Николаевна посматривала по сторонам, рассказывала автоматом. Она хорошо знала текст наболевшего.
Договорились встретиться вечером. У него дома…
Кофеварка у Германа Ивановича была стеклянная, прозрачная. Закипая на газу, напоминала лабораторный опыт. Вера Николаевна опасалась, что она может лопнуть. Уставщиков успокоил: огнеупорная.
Плуготаренко пришла сюда в третий раз. Но ничего, кроме кофе и печенья, хозяин опять не предложил. Готовит ли вообще что-нибудь? Подмывало заглянуть в холодильник.
– А зачем, Вера? Он отключен.
На подносе понёс чашки с кофе и печенье в комнату. Вера Николаевна пошла за ним.
Сидели друг напротив друга за столом. Отпивали из чашек. Женщина непроизвольно озиралась. Никак не могла привыкнуть к холостяцкому разбросу и неразберихе. Даже книжный шкаф был забит чем попало и как попало. Один только длинный скользкий ряд фотографий на стене являл собой хоть какой-то порядок.
– Тебя всё это ждёт, Вера, – следя за женщиной, посмеивался мужчина. – Только твоих рук.
Потом она опять говорила о своём. Больном, неразрешимом. Куда она загнала себя сама. Что делать, Гера? Как жить дальше?
Он гладил её руку.
– Переезжай ко мне. И всё сразу решится. Поверь.
– Я не могу сейчас, Гера. Я не готова, – мучилась женщина, чуть не плача.
Домой пришла в девять.
Избегая глаз сына, снимала тёплую кофту.
Сын смотрел. Тонкие губы женщины были подкрашены. Напоминали забытого снулого червячка.
– Тебе звонили. Зимины. Два раза.
Пультом выключил телевизор, поехал к себе.
Вера Николаевна опустилась на стул.
Увидела себя в зеркале. Изменилась в лице. Торопливо начала стирать помаду с губ. Не жалела чистый белый носовой платок…
Плуготаренко лежал. Странно. У матери любовная связь. Она и Уставщиков. Молодец мама. Не отстаёт от сына. Тоже теперь будет мёрзнуть у чужих подъездов. Только ведь вроде бы женат. Что-то Валька Жулев говорил. Точно. И дети есть. Двое. Один раз видел его с ними на улице. Давно, правда. Все трое как отштампованные монеты. Только разного номинала. Двадцатик, десятик и пятачок. И куда законную теперь девать? Да, мама, молодец.
Потом думал о Наталье. Как только вспоминал последнюю близость с ней – в груди сразу начинало сжиматься всё, обмирать. Ни разу не было такого. Вулкан. Извержение вулкана, поглотившее его. Он не верил потом. Он не чувствовал себя. Как не чувствует себя освобождённый ветер, летающий пух.
Через пять минут уже одевался в прихожей. «Поеду, прогуляюсь». Хлопнул дверью.
Летел под фонарями на Льва Толстого.
Как только переехал через порог – женщина обняла, прижала его голову к груди.
Это была была фантастика! Счастье!
3
Вагон дёрнулся, поехал. На ночном перроне как нищие оставались светить для самих себя станционные фонари. С дощатым вокзальчиком за спиной и с палкой флажка в руке проплыл железнодорожник в фуражке и душегрейке. С летящими снежинками протянуло заблудившуюся оглядывающуюся собаку. Перрон оборвался, и поезд, стуча словно бы на месте, начал вязнуть в заснеженной темноте.
Михаил Янович увёл взгляд от окна.
В притемнённом купе смотрел на жестоко храпящего старика, борода которого вздымалась как дым. Покачивался с вагоном, доставал платок, вытирал глаза. Вновь слушал бомбящий храп. Вздыхал…
Циля Исааковна упала на лестнице. На площадке между третьим и четвёртым этажами. Разбился, хлынул кефир, три-четыре апельсина поскакали по лестнице вниз.
Михаил Янович в это время за столом в комнате писал.
Когда раздался звонок – удивился: мать всегда открывала дверь своим ключом.
Открыв, попятился от двери – двое мужчин натужно потащили в квартиру Цилю Исааковну, в пальто будто в мешке.
Остановились, удерживая ношу на весу. Cпросили у сына:
– Куда?
Но сын онемел. Вытаращенными глазами смотрел на сливовое лицо матери. На съехавшее лицо будто пьяной женщины.
Повернулся к Анне Тарасовне. Та, оттолкнув его, распахнула дверь в спальню: сюда!
Цилю Исааковну протащили и положили на диван сына.
Точно грузчики, выполнившие работу, мужчины хмуро пошли на выход.
Михаил Янович разучился говорить. Хотел что-то им сказать, остановить. Вдруг ноги его подкосились, и он свалился на пол, сдёрнув со стола скатерть.
– Миша! Миша! – хлопали его по щекам. – Очнись! Скорую надо. Срочно беги ко мне. Вызывай!
Михаил Янович сел.
Как сам гремел с лестницы, прежде чем схватить телефонную трубку Анны Тарасовны – не помнил.
Сидел на краю дивана, не спускал с лица матери глаз. Казалось, что мать еле-еле дышит. Но приехавший врач «скорой» сразу склонился, что-то потрогал у матери на шее. Потом распрямился и сказал: «Умерла». И, не обращая внимания на завывшего сына, сел писать какую-то бумагу…
Вагон всё время дёргали, словно будили, не давали спать. Старик на время прерывал храп. И вновь разражался.
Михаил Янович по-прежнему сидел у окна.