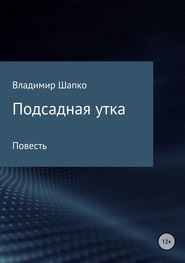По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Синдром веселья Плуготаренко
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зато «чёртов трезвенник Проков» в это время водил по зданию гостей из президиума, зная, что всё в здании чисто. В смысле этого самого. Щелчка под бутылку. Показывал им, чёрт бы его побрал, где и что в здании находится. Долго держал всех троих возле длинного ряда фотографий на стене вестибюля. С погибшими в Афганистане парнями из Города. Словно чтобы гости хорошенько запомнили их. Ганин и Несмывайлов хмурились. Мужественно. А пожилая Дрожжина по-бабьи сокрушалась: такие молодые, совсем мальчишки, Покачивала низким лобиком своим. Как крестила парней иконкой.
Проков помог гостям в гардеробе одеться, до дверей проводил, пожал всем руки и пошёл, наконец, в свой кабинет, Где давно уже сидели Члены Клуба Афганских Воспоминаний. Человек десять Постоянных Членов. Этим водки не надо, этим бы только подымить, вспомнить былое. Своё, афганское. Они, похоже, даже не заметили вошедшего хозяина кабинета. Которому пришлось скромно присесть к своему столу, будто бедному родственнику.
Одеяла из дыма плавали по всей комнате, свободно:
…в Афгане ночи тёмные. Сами знаете. Глаз выколи. Душман-снайпер клал на камни китайский дешёвый фонарик, ложился в сторонке и ждал. Какой-нибудь наш салага, оставленный в дозоре, не выдерживал, стрелял по фонарику. Тут душман и поражал дурака. Бывали такие случаи. Или пускали ночью по склонам ишаков. С привязанными фонариками. Дескать, много нас, русские, бойтесь нас! Ну, однажды нам надоело. Шмальнули из танка. Погасили. Больше фонарики по ночам не передвигались. А днём чаще врага и не видели. Постреляют духи откуда-нибудь: из виноградника там или из зелёнки и отойдут. Если видишь их, то далеко, на полтора-два километра – пулей не возьмёшь. В горах днём хорошо видно. Из-за разрежённого воздуха… Да-а. Иногда шли на них. Они видели, что нас больше – разбегались из засад, как зайцы, бросая оружие. В рукопашную сходились редко. Больше так. В кошки-мышки. Да-а…
…а я запомнил свой первый выход пёхом в горы. Жара под 50. Да ещё килограммов пятьдесят полного боевого на тебя навесили. Лезешь со всеми вверх. Ноги чугунные. Лёгкий маскхалат на тебе будто презерватив – не дышит. От пота вся одежда прилипла к телу как слизь. Да ещё взводный в зад всё время пинает. Ты готов пасть и катиться к чёртовой бабушке вниз. На всю жизнь запомнил…
…да какой чай из верблюжьих колючек! Какой помогал! О чём ты говоришь! У душманов-то трубочки-фильтры были. Итальянские. Американцы снабжали их. Через такую трубку хоть из грязной лужи соси. Ничего не будет! А мы-то – с таблетками из хлорки. И всё. И как хочешь. Хоть десять их кидай в воду – ни черта не помогали. Вот и цеплял ребят то гепатит, то тиф. Да вон покойного Гришу Зиновьева вспомни. Из Афгана выбрался живой. А дома всё же загнулся. И всё от той ещё, афганской, грязной воды. Здесь она его уже достала. Дома…
…а мы воинский устав в Афгане частенько нарушали. Когда уже пообтёрлись там. И командиры смотрели на это сквозь пальцы. К примеру, рота вышла из операции, из боёв, к примеру, из Поджшера. На отдыхе мы теперь. Или где-нибудь в охранении. Складов там, военных объектов. Ты теперь часовой. По уставу ты обязан стоять возле склада или ходить вдоль него. И ты ходишь, как дурак, от одного угла к другому. Или круги вокруг склада даёшь. Это в Союзе так хорошо по уставу ходить. Где-нибудь в Туркестанском Военном Округе. В Афгане так не получалось. Местность там часто открытая, пустая. Ты виден как на ладони. Казалось, и ты видишь всё вокруг хорошо. Никто к тебе скрытно не подойдёт. Но это твоя ошибка. Душманы, прежде чем грабить склад, пускали вперёд снайпера. Тот полз и метров с пятидесяти бил тебя. Просто как куклу. Это днём, А ночью и того хуже. Не дай бог, склад освещён по периметру. И ты топаешь опять по уставу от одной лампочки до другой. К тебе просто подползают и снимают тебя ножом. Режут горло. У нас двое так погибли. Мотались вдоль склада по уставу. Поэтому если ты не дурак, ты сам прячешься где-нибудь возле склада и наблюдаешь. И днём так, и ночью. Тебя не видно, а ты видишь всё. И духи в полной неуверенности: ушла охрана или нет? Так я и встретил один раз неуверенных. Автоматным огнём. Пятеро их было, неуверенных. Все поплясали передо мной и полегли. Прямо возле склада. Правда, один минус в такой маскировке есть. Когда спрятался ночью, лежишь, пялишь глаза – можешь заснуть. А уж тут опять взводный пинает тебя в зад. Ха-ха-ха! Так что живым хочешь остаться – маракуй. Не по Уставу…
Проков курил со всеми, но молчал. Хмурился. Как отец. Опять ребят растащило по всему Афганистану. Мы под Кандагаром. А вот мы в Панджшерском ущелье. Не соберёшь теперь их и не остановишь. Часа на два шарманка будет. Только что поднять руку: всё ребята, по домам, Общество закрываю… Однако сказать так, одёрнуть, никак нельзя. В свой Дом ведь люди пришли. С жёнами-то, у себя дома, не больно повспоминаешь. Придётся ждать. Пока не наговорятся.
Громышев тоже мало слушал дымные воспоминания. Его медленные толстые пальцы неуклюже ворочались по клавиатуре компьютера. Он зачем-то вносил изменения в свой отчёт. Который инвалиды только что прослушали. Потом прогонял исправленное через принтер.
На время умолкнув, инвалиды с интересом смотрели на скрежещущую машину, сбрасывающую и сбрасывающую листы… И по новой закуривали:
…а вот у нас был случай в Тогапском ущелье…
2
Собака была привязана поводком за чугунную оградку возле двухэтажного кирпичного здания. Как убитый горем человек, закидывала к небу длинную приоткрытую пасть и плакала.
Сначала перед воющей собакой стояла только девушка. Одна. В лохматой дошке. С циркульно расставленными ногами. Как бы говоря: ну, в чём дело, псина? Кто тебя обидел? Затем остановилось ещё несколько человек.
Женщина в шапке с хвостиками, сказала, что собаку просто бросили. Здесь, возле здания городского Архива. Мужчина в пыжиковой шапке не согласился, сказал, что собака наверняка сама потерялась, а кто-то сердобольный привязал её. Может быть, хозяева и найдут теперь. Они ведь, эти собаки-колли, дурные, дома не знают, все длинношёрстные, не поймёшь: то ли кобель перед тобой, то ли сука.
Летящий на всех парах Плуготаренко – резко стал. Из перемётной сумы выхватил фотоаппарат, начал быстро снимать, катаясь вдоль людей и воющей собаки. И вдруг тоже застыл. Точно ударенный кем-то по затылку. Во все глаза смотрел на собаку, не чувствуя пальцами ледяного фотоаппарата.
Собака всё выла. Делала короткие передышки. Словно чтобы побольше набрать воздуху. Снова закидывала узкую морду, закрывала глаза и плакала.
Странная, не ожидаемая никем, тихо подъехала «скорая», похожая на компактный катафалк. К дверям здания быстро прошла белая врач с медицинским баулом и два санитара со сложенной коляской и носилками.
Никто ничего не мог понять. Смотрели то на воющую собаку, то на дверь, за которой скрылись врач и санитары.
Через какое-то время врач с баулом вышла обратно и направилась к машине. С двух ступенек крыльца санитары скатили расставленную коляску. На носилках лежала старуха с закрытыми глазами. После оживляющих действий санитаров, она казалась растерзанной – пальто и две кофты остались расстёгнутыми, теплый байковый халат ниже живота тоже разъехался, – были видны старухины панталоны, её простые чулки со съехавшими старомодными резинками. Суетливым санитарам почему-то в голову не приходило, что женщину нужно прикрыть, хотя бы поправить халат – прямо такой, раскрытой, жалкой, начали толкать её с носилками в чрево «скорой». Сложили коляску, сами полезли. Захлопнулись. Не спеша, так же беззвучно, «скорая» поехала.
Когда женщину вывозили, вой собаки резко усилился, полетел в запредельную вышину. Но она словно не видела ничего – не тронулась с места, не дёрнулась за хозяйкой. Зрителей это уже словно бы раздражало, смотрели на неё с укоризной. Мол, что же ты? Хотели, видимо, чтобы собака сорвалась, чтобы бежала за «скорой» и с воем прыгала на неё, как на гроб.
Плуготаренко хотел подъехать, отвязать её и попытаться увести с собой. Но его опередил какой-то коренастый подросток. Зыркнув зло на бездействующих взрослых, крепеньким плечом оттолкнул в сторону девушку с циркульными ногами. Подошёл к собаке. У пацана светлая лыжная шапка толстой вязки походила на торчливую кукурузу. Он присел к собаке и отвязал её. Легонько дёрнул за поводок. И собака пошла за ним, покралась. Будто после осуждения людей, уже не плача.
Старик, сокрытый драным малахаем, глядя вслед, сказал:
– Смотри, ты, сквозь стены увидела смерть хозяйки…
С опозданием выбежала в одном платье на крыльцо молодая сотрудница Архива. В руках у неё была стянутая трюфелем сумка старухи. Несколько женщин и мужчин сразу заторопились, пошли в разные стороны. В том числе и старик, бойко работая костыликом.
Женщина посмотрела на растерянного инвалида в коляске и ушла обратно в здание…
Плуготаренко не помнил, как приехал домой. Увидев дикие его глаза, Вера Николаевна отпрянула от порога: опять турнули! Ведь умчался на «встречу с женой» – часа не прошло. Точно – опять выставили. А ведь сегодня воскресенье, и она не работает. Дома сидит.
Прошло почти два месяца, как сын сошёлся с толстухой, а дома у неё был по-прежнему на птичьих правах. На день его в квартире не оставляли, а вечерами почти всегда возвращался домой. Теперь по телефону Зиминым на вопрос о сыне Вера Николаевна всегда отвечала одинаково: а он уехал на свидание со своей женой. Ага. Так он её называет. Он ведь не живёт с ней, он только у неё ночует. И то не всегда. Только тогда, когда это ему позволяют. И, изумляя друзей, добавляла жаргоном своих телевизорных ментов и воров: «Он ведь, как там считают – рамсы попутал. Галя! Миша! Рамсы-ы! Ха-ха-ха!»
Зимины недоумевали: ей бы радоваться, что сын не закрепился у толстухи окончательно, что всё ещё может повернуть назад, а она обижается на него.
Даже после таких невинных вопросов о сыне у Веры Николаевны начинало саднить душу. Сын в эти два месяца, как ненормальный, везде наплескал языком про себя и Ивашову. Каждому знакомому он радостно говорил: вон идёт с работы моя жена, эти цветы для моей жены, вот еду встречать её, извините, тороплюсь, в другой раз поговорим. То есть он, думали нормальные люди – женился. Поздравляли даже его. И того не ведали, что свадьбы никакой не было. Да какой свадьбы! какой регистрации в загсе! – просто собраться узким кругом, как-то отметить, как-то закрепить положение любовников-сожителей – и то толстуха не желает. А он, дурачок, везде – моя жена! это моя жена идёт!
И после такого всего – сегодня вернулся без лица. Что-то произошло. Что-то серьёзное. Поставили, наконец, на место? Окончательно разорвали с ним?
Почувствовала однако Вера Николаевна не радость – боль.
Подошла, спросила у закрытой двери:
– Юра, что случилось у тебя?
– Ничего, – глухо донеслось в ответ.
– Так, может, выйдешь? Чаю попьёшь?
– Нет.
Мать отошла от двери…
Лежал на диване. Голова пылала. Видел всё произошедшее возле здания Архива. Как метался с фотоаппаратом вокруг несчастной собаки и зевак. Как увидел, наконец, главный снимок свой. Его мгновенные версии, варианты. Снимал их из разных точек, положений. Справа, слева, спереди, сзади. А снимок был, собственно, один. Его. Единственный. Под названием «Горе собаки». С сюжетом, как нескончаемо плакала, вскидывала дымящуюся пасть привязанная брошенная длинношёрстная псина и как перед ней – будто посланница мутных зевак – стояла девица. С руками в бока, с расставленными, какими-то высокомерными ногами.
Что же ты делаешь, подлец! – словно ударил его кто-то там по башке. И он замер, забыв про фотоаппарат. Смотрел на собаку. Нагнетаемый и нагнетаемый её воем, её болью. Болью всего живого.…
Сфотографировать умершую собачью хозяйку, раскрытую всему миру, со съехавшим чулком, с её старушечьей резинкой… просто не смог, не посмел.
Для чего-то пытался вспомнить сейчас, понять, почему он оказался там. Как его вынесло на Карбышева, к Архиву. Совсем в другой стороне от дома Ивашовой.
Он поехал к Наталье специально поздно, около девяти, чтобы дать ей в воскресенье поспать, Ещё полчаса, наверное, гонял по улицам неподалёку от её дома. И вдруг оказался на Карбышева, возле Архива, возле воющей собаки. Кто притащил его туда?
Вскинувшись на локоть, смотрел на мелкомасштабную карту Города, пришпиленную рядом со шкафом. На кособокие жилищные массивы её, с линиями улиц и улочек. Чтобы попасть на Карбышева, нужно было проехать ему городской парк (мимо Адамова и Сатказина, притом не замеченным ими!), вдоль городского рынка, переехать мост через замерзшую речушку Комендантку, и только тогда бы он выехал на Карбышева, к Архиву, ко второму зданию от угла. Но ведь он не помнил этого! Совсем не помнил, как ехал туда!.. Впрочем, как и обратного пути домой. Память включилась, только когда своим ключом открывал дверь, когда увидел пятящуюся мать, её растерянные испуганные глаза…
…Сын приехал на кухню обедать. Был он бледен. Пепельно-сер.
Не поднимая глаз, хлебал щи. Мать смотрела, готовая плакать. Говорила одна. Голос не слушался её, подрагивал:
– …Юра, ты давно превратился в хвост, которым виляет собака. В хвост, Юра. Где же твоя гордость, Юра?
Сын вдруг закричал:
– Не говори о собаках! Слышишь?! Никогда не говори о собаках!
Лицо его тёмно вспыхнуло, как будто покрылось серой окалиной. С ненавистью смотрел на мать. Бросил ложку, перекинул себя в коляску, поехал к себе.