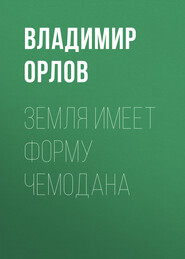По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Камергерский переулок
Серия
Год написания книги
2008
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Рулон я употребил в смысле формы, – принялся оправдываться Прокопьев. – Для рулона нужен тубус. Ну, из тех, что у архитекторов, у чертежников…
– Он может быть и металлическим?
– Да хоть и платиновым.
– Важно, чтобы документ не мог сгореть, размокнуть, быть съеден жучком, и чтоб его ни в коем случае не похитили.
– Да кто его похитит? – удивился Симбирцев.
– Враги, – мрачно сказал Мельников, – Враги и завистники. Режиссеры из провинции. Из Авиньона… Хранилище должно быть загадочно-секретным.
– А с чего вдруг с разговором о хранилище вы обратились ко мне? – спросил Прокопьев.
– Ну… – замялся Мельников. – Я полагал…
– Молва, – сказал Симбирцев. – Народная молва. И касса с буфетом это подтвердят. Народ убежден, что вы не только краснодеревщик, но и…
– Но и чернокнижник, – вступил Мельников.
– Мало ли что несут! – рассмеялся Симбирцев. – Но все же говорят, что вы, Сергей Максимович, умелец не в одних лишь пружинных делах…
– Я имею слабость ко всяким хитроумным устройствам, однако…
– Ну вот! – обрадовался Мельников. – Мы и поладим! А я не пожалею…
– Пожалеет! – сказал Симбирцев.
– Надо посмотреть, какие у вас стены, – задумался Прокопьев. – И прочее. Вы где предполагаете устроить… хранилище? В Москве или загородом, в вашем…
– Замке! – хохотнул Симбирцев. – В родовом замке со скелетами и рыцарскими доспехами. С привидениями!
– Это надо обсудить особо, – прошептал Мельников. – И не здесь…
– Хорошо, – кивнул Прокопьев. – Мне надо подумать. Согласия я не дал.
– Сергей Максимович, – сказал Симбирцев. – И не давайте согласия. Не проявляйте легкомыслия. О душе своей подумайте и о теле. О животе подумайте, то бишь не об утробе, солянки пожирающей, а о жизни в вечном понимании… Неужели вы не помните о судьбах умельцев, сотворявших красоту, секретные хранилища и подземные ходы? Соборы, наконец, и кремли? Возьмем хотя бы либерала и просвещенного князя Юрия Звенигородского…
– По легенде! – возмутился Мельников. – По лживой и неподтвержденной легенде!
– Однако Тарковский в «Рублеве»…
– А что Тарковский? – вскричал Мельников. – Для тебя Тарковский авторитет, а для меня он ученик!
– В какие такие свои годы ты мог быть учителем Тарковского?
– А что годы? Леонардо и в пять лет мог стать учителем Вероккио. Я говорил, Андрюшенька, окстись, зачем ты бросаешь тень на милейшего князя Юрия! Не послушал…Потом, уже в Швеции каялся, чуть ли не плакал, говорил: «Ты был прав! Все это ради красивого кадра…» Я тогда платок достал, протянул ему… Вот этот…
– Хватит! Хватит! Теперь тебя не остановишь! – испугался Симбирцев. – Не лезь в карман за платком, я тебе верю, верю. Но я-то имею в виду тебя. А ты вовсе не милейший. Сергей Максимович, учтите, как только вы ему соорудите тайничок, он вас тут же и ухлопает. Или киллера вызовет из Тамбова. Или сам взорвет.
– Есть же предел твоим пошлостям! – вскочил Мельников. – Все, Сергей Максимович, мы договорились.
– Я обещал подумать, – сказал Прокопьев.
16
Покидать Камергерский сразу же после ухода Мельникова с Симбирцевым у Прокопьева желания не было. Он решил купить газеты в киосках у «Марочных вин» за памятником Антону Павловичу, а потом почитать о совершенствовании жизни граждан вблизи кассового аппарата Людмилы Васильевны. Сентиментальную натуру Прокопьева на углу Тверской и Камергерского каждый раз догоняли впечатления детской поры. У здешних витрин грустноодинокий Плятт в кинофильме «Подкидыш» печалился о заблудившейся девочке, а Раневская повторяла: «Муля, не нервируй меня!» Приобретя газеты, Прокопьев вспомнил о вчерашнем своем намерении. Впрочем, намерение это было многолетнее, но вчера оно ожило.
Прокопьев мастерил вечером некую забавную вещицу с сюрпризами (понадобятся ли сюрпризы Мельникову?), в увлечении стал насвистывать, но, посчитав, что вызовет раздражение домашних, замолк и опустил на диск проигрывателя недавнюю покупку – пластинку с музыкой Прокофьева к «Ивану Грозному», стараниями дирижера Стасевича сведенную в ораторию. Музыка была замечательная, сильнейшее впечатление на Прокопьева снова, как и в фильме, произвела пляска опричников, ковыряние в вещичке с сюрпризами пришлось отложить. А шкатулка, пусть и бессмысленная, могла и впрямь получиться забавной. В Дрезден снова надо съездить к секретам мастеров Зеленой Кладовой, решил Прокопьев. Но тут же и осозналось; «Надо! Надо!» сто раз приходило ему в голову в связи с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Солянка солянкой, а напротив солянки – музей-квартира однофамильца. Почти однофамильца. Завтра же, завтра ее следует посетить. Впрочем, который год – завтра…
И теперь с газетами, в их числе – «Мир Новостей» с рожей олигарха на обложке и «Советский спорт», Прокопьев шагал Камергерским. Под музеем МХАТа шляпой собирали подаяние голосистые хлопцы с гитарой и бубном, обеспечивавшие удачу картоном со словами: «Родина Маккартни – Кременчуг и Вапнярка», всюду при выносах столиков на брусчатку переулка пили кофе и пиво. Дверь в музей-квартиру находилась теперь между уличными местами Дзен-кофейни и пивного ресторана «Яранга» (возможно, в подвале «Яранги» гурманов угощали моржовыми хрящами и хренами, а посуду поставляли косторезы от Берингова пролива, но пиво в кружки заливали из бутылок, купленных за 15 р. в «Красных дверях», в «Яранге» же оно превращалось в напиток стодвадцатирублевой ценности, то же происходило и в «Оранжевом галстуке» сбоку от закусочной. Это, естественно, было неприятно для Прокопьева. Прокопьев нажал на кнопку над дверью музея-квартиры Сергея Сергеевича. Еще нажал, еще. Надеялся, вот-вот услышит за дверью шаги, скорее всего деликатные, женские. То есть не то, чтобы скорее всего, а убежден был, что хранительницей квартиры служит женщина, в прошлом пианистка, играла на конкурсах «Мимолетности» гения. А может, дальняя его родственница, с худым лицом и в очках. Не раздалось деликатных шагов, значительно-хмурый охранник от соседней двери («Поднебесная недвижимость») взглядом пристрелил Прокопьева как не прошедшего регистрацию. Никаких правил посешений музея-квартиры вывешено не было. «Ба! Да ведь уже седьмой час! – сообразил Прокопьев. – А к ним небось записываться надо заранее, может, за неделю…»
Ну и ладно, решил Прокопьев. Ему будто полегчало. А был он в напряжении. И прежде сознавал, что оттягивает приход к человеку, заслуженно имеющему в фамилии знак «Ф» (Фортуна! Но может – и Фатум. Впрочем, гению и предопределено соединение Фортуны с Фатумом). Это в Третьяковку зайти легко. Ходи себе и ходи. И никто не поинтересуется, знаток ты или профан, тетеха щербинковская, слышал ты что-либо о Дионисии или Лентулове и вообще зачем ты сюда притащился. А заходить в музей-квартиру все равно что заходить в гости. Наверное, сюда впускают экскурсантов, а так-то в дверь звонят два-три посетителя, и хранительница, эта самая родственница и пианистка, в очечках, хотя бы из вежливости должна интересоваться, а что вас, дорогие гости, сюда привело, в чем суть вашего прихода и что вы намерены узнать о Сергее Сергеевиче? Он, Прокопьев, конечно, стал бы мямлить. А хранительница спросила бы и о том, какие сочинения особенно дороги ему. Что бы назвал Прокопьев? Первым делом, естестввенно, «Петя и волк», сам побывал некогда пионером Петей, ну потом «Золушку» и веронский балет, ну фильмы бы вспомнил, ну «Классическую симфонию», «Мимолетности». То есть Прокопьев о своем однофамильце имел представление, музыку его любил, но уж точно, кроме бормотания о Пете с волком и партии гобоя хранительница от него ничего бы не услышала, приняла бы его за посетителя ресторана «Древний Китай» и расстроилась бы за бывшего хозяина квартиры.
«Оно и к лучшему, оно и к лучшему, – повторял про себя Прокопьев. – Еще послушаю Прокофьева, почитаю о нем побольше, тогда и зайду…»
Приняв из рук буфетчицы Даши кружку пива, Прокопьев приглядел пустой столик. Мысли его вступили в праздное и странное колыхание. «Ниже по Дмитровке, прямо за домом Прокофьева, – Георгиевский монастырь, остатки его, нынче „Новый манеж“ с золочеными прапорцами, а прежде гараж силовых людей, а еще прежде – именно женский монастырь. В двадцатые годы ломали и вскрыли захоронение Марфы, Царской невесты, она была как живая, яды Бомелия убили и сохранили ее. В опере Римского-Корсакова ее любил опричник Грязной. Но причем тут Прокофьев? Римский-Корсаков был его учителем. Опричные люди оцепили здешние места в марте пятьдесят третьего, направляя народ в Колонный зал к утихшему Сталину, а в оцеплении лежал упокоившийся Прокофьев…»
Прокопьева и самого ввел в раздражение совершенно необязательный ход его мыслей. А главное, он никак не мог им управлять. Бог знает что, красавица Марфа, опричник Грязной, это все легенды, да и об обстоятельствах кончины композитора он знал понаслышке. Все это тени Камергерского…
– Уважаемый, – услышал Прокопьев, – не поможете ли вы в решении умственной задачи?
Оказывается, за столик к нему подсел неизвестный Прокопьеву человек. Перед ним лежала газета с умственными задачами. Человек сидел спиной к окну, к солнцу, и поначалу показался Прокопьеву черным. Или чернявым. По пригляде выяснилось, что он скорее темнорусый, а волосом пышен, локоны его спадали к плечам. Имел сосед эспаньолку и тонкие усы, им он уделял внимания, подумал Прокопьев, видимо, не меньше, нежели сериальный сыщик второго канала Эркюль Пуаро.
– Первая башня Кремля, – сказал сосед. – Девять букв. А?
– Что? Какая башня? – удивился Прокопьев.
Следовало бы сообщить соседу, что он теперь не склонен к разговору. Но вдруг умственная задача истребит в нем бессвязие мыслей? Откуда возник сосед? И когда? Рядом с газетой стоял бокал коньяка, а Прокопьев не слышал обращения соседа к буфетчице.
– Первая башня Кремля, – повторил человек с льющимися локонами и эспаньолкой. – Первая по времени создания, от нее пошли стены. Четвертая буква от конца «ц».
– Боровицкая! – обрадованно поспешил Прокопьев.
– Боровицкая… – протянул сосед, ручка его опустилась к газете. – Нет. Увы, увы! Лишняя буква в этой башне. А в нашей с вами башне тайник с колодцем…
– Тайницкая… – выдохнул Прокопьев.
– Верно. Верно! Тайницкая! – теперь уже обрадовался сосед. – Надо же. Кремль начался с тайника! С тайника. И до сих пор стоит.
Прокопьеву захотелось отсесть к кому-нибудь из знакомых. Или вообще уйти из закусочной. Но знакомцев в присутственном месте отчего-то не было.
– Да, ведь до сих пор стоит, – продолжил сосед, заполнив девять клеточек. – Горел, а стоит. Знать, замечательные были у нас тайницких дел мастера! Теперь такие перевелись.
Прокопьев не пожелал нужным что-либо высказать.
– Или не перевелись? – резко спросил сосед. Почти вскрикнул. Или выпалил.
Он и глазами будто выпалил в Прокопьева. И будто левый глаз его сощурился и стал зеленым. «Да нет, мерещится, – успокоил себя Прокопьев. – Глаза у него одинаковые, карие, и злокозненный прищур не возникал. Этак мне еще и тень царской невесты привидится…»
– Он может быть и металлическим?
– Да хоть и платиновым.
– Важно, чтобы документ не мог сгореть, размокнуть, быть съеден жучком, и чтоб его ни в коем случае не похитили.
– Да кто его похитит? – удивился Симбирцев.
– Враги, – мрачно сказал Мельников, – Враги и завистники. Режиссеры из провинции. Из Авиньона… Хранилище должно быть загадочно-секретным.
– А с чего вдруг с разговором о хранилище вы обратились ко мне? – спросил Прокопьев.
– Ну… – замялся Мельников. – Я полагал…
– Молва, – сказал Симбирцев. – Народная молва. И касса с буфетом это подтвердят. Народ убежден, что вы не только краснодеревщик, но и…
– Но и чернокнижник, – вступил Мельников.
– Мало ли что несут! – рассмеялся Симбирцев. – Но все же говорят, что вы, Сергей Максимович, умелец не в одних лишь пружинных делах…
– Я имею слабость ко всяким хитроумным устройствам, однако…
– Ну вот! – обрадовался Мельников. – Мы и поладим! А я не пожалею…
– Пожалеет! – сказал Симбирцев.
– Надо посмотреть, какие у вас стены, – задумался Прокопьев. – И прочее. Вы где предполагаете устроить… хранилище? В Москве или загородом, в вашем…
– Замке! – хохотнул Симбирцев. – В родовом замке со скелетами и рыцарскими доспехами. С привидениями!
– Это надо обсудить особо, – прошептал Мельников. – И не здесь…
– Хорошо, – кивнул Прокопьев. – Мне надо подумать. Согласия я не дал.
– Сергей Максимович, – сказал Симбирцев. – И не давайте согласия. Не проявляйте легкомыслия. О душе своей подумайте и о теле. О животе подумайте, то бишь не об утробе, солянки пожирающей, а о жизни в вечном понимании… Неужели вы не помните о судьбах умельцев, сотворявших красоту, секретные хранилища и подземные ходы? Соборы, наконец, и кремли? Возьмем хотя бы либерала и просвещенного князя Юрия Звенигородского…
– По легенде! – возмутился Мельников. – По лживой и неподтвержденной легенде!
– Однако Тарковский в «Рублеве»…
– А что Тарковский? – вскричал Мельников. – Для тебя Тарковский авторитет, а для меня он ученик!
– В какие такие свои годы ты мог быть учителем Тарковского?
– А что годы? Леонардо и в пять лет мог стать учителем Вероккио. Я говорил, Андрюшенька, окстись, зачем ты бросаешь тень на милейшего князя Юрия! Не послушал…Потом, уже в Швеции каялся, чуть ли не плакал, говорил: «Ты был прав! Все это ради красивого кадра…» Я тогда платок достал, протянул ему… Вот этот…
– Хватит! Хватит! Теперь тебя не остановишь! – испугался Симбирцев. – Не лезь в карман за платком, я тебе верю, верю. Но я-то имею в виду тебя. А ты вовсе не милейший. Сергей Максимович, учтите, как только вы ему соорудите тайничок, он вас тут же и ухлопает. Или киллера вызовет из Тамбова. Или сам взорвет.
– Есть же предел твоим пошлостям! – вскочил Мельников. – Все, Сергей Максимович, мы договорились.
– Я обещал подумать, – сказал Прокопьев.
16
Покидать Камергерский сразу же после ухода Мельникова с Симбирцевым у Прокопьева желания не было. Он решил купить газеты в киосках у «Марочных вин» за памятником Антону Павловичу, а потом почитать о совершенствовании жизни граждан вблизи кассового аппарата Людмилы Васильевны. Сентиментальную натуру Прокопьева на углу Тверской и Камергерского каждый раз догоняли впечатления детской поры. У здешних витрин грустноодинокий Плятт в кинофильме «Подкидыш» печалился о заблудившейся девочке, а Раневская повторяла: «Муля, не нервируй меня!» Приобретя газеты, Прокопьев вспомнил о вчерашнем своем намерении. Впрочем, намерение это было многолетнее, но вчера оно ожило.
Прокопьев мастерил вечером некую забавную вещицу с сюрпризами (понадобятся ли сюрпризы Мельникову?), в увлечении стал насвистывать, но, посчитав, что вызовет раздражение домашних, замолк и опустил на диск проигрывателя недавнюю покупку – пластинку с музыкой Прокофьева к «Ивану Грозному», стараниями дирижера Стасевича сведенную в ораторию. Музыка была замечательная, сильнейшее впечатление на Прокопьева снова, как и в фильме, произвела пляска опричников, ковыряние в вещичке с сюрпризами пришлось отложить. А шкатулка, пусть и бессмысленная, могла и впрямь получиться забавной. В Дрезден снова надо съездить к секретам мастеров Зеленой Кладовой, решил Прокопьев. Но тут же и осозналось; «Надо! Надо!» сто раз приходило ему в голову в связи с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Солянка солянкой, а напротив солянки – музей-квартира однофамильца. Почти однофамильца. Завтра же, завтра ее следует посетить. Впрочем, который год – завтра…
И теперь с газетами, в их числе – «Мир Новостей» с рожей олигарха на обложке и «Советский спорт», Прокопьев шагал Камергерским. Под музеем МХАТа шляпой собирали подаяние голосистые хлопцы с гитарой и бубном, обеспечивавшие удачу картоном со словами: «Родина Маккартни – Кременчуг и Вапнярка», всюду при выносах столиков на брусчатку переулка пили кофе и пиво. Дверь в музей-квартиру находилась теперь между уличными местами Дзен-кофейни и пивного ресторана «Яранга» (возможно, в подвале «Яранги» гурманов угощали моржовыми хрящами и хренами, а посуду поставляли косторезы от Берингова пролива, но пиво в кружки заливали из бутылок, купленных за 15 р. в «Красных дверях», в «Яранге» же оно превращалось в напиток стодвадцатирублевой ценности, то же происходило и в «Оранжевом галстуке» сбоку от закусочной. Это, естественно, было неприятно для Прокопьева. Прокопьев нажал на кнопку над дверью музея-квартиры Сергея Сергеевича. Еще нажал, еще. Надеялся, вот-вот услышит за дверью шаги, скорее всего деликатные, женские. То есть не то, чтобы скорее всего, а убежден был, что хранительницей квартиры служит женщина, в прошлом пианистка, играла на конкурсах «Мимолетности» гения. А может, дальняя его родственница, с худым лицом и в очках. Не раздалось деликатных шагов, значительно-хмурый охранник от соседней двери («Поднебесная недвижимость») взглядом пристрелил Прокопьева как не прошедшего регистрацию. Никаких правил посешений музея-квартиры вывешено не было. «Ба! Да ведь уже седьмой час! – сообразил Прокопьев. – А к ним небось записываться надо заранее, может, за неделю…»
Ну и ладно, решил Прокопьев. Ему будто полегчало. А был он в напряжении. И прежде сознавал, что оттягивает приход к человеку, заслуженно имеющему в фамилии знак «Ф» (Фортуна! Но может – и Фатум. Впрочем, гению и предопределено соединение Фортуны с Фатумом). Это в Третьяковку зайти легко. Ходи себе и ходи. И никто не поинтересуется, знаток ты или профан, тетеха щербинковская, слышал ты что-либо о Дионисии или Лентулове и вообще зачем ты сюда притащился. А заходить в музей-квартиру все равно что заходить в гости. Наверное, сюда впускают экскурсантов, а так-то в дверь звонят два-три посетителя, и хранительница, эта самая родственница и пианистка, в очечках, хотя бы из вежливости должна интересоваться, а что вас, дорогие гости, сюда привело, в чем суть вашего прихода и что вы намерены узнать о Сергее Сергеевиче? Он, Прокопьев, конечно, стал бы мямлить. А хранительница спросила бы и о том, какие сочинения особенно дороги ему. Что бы назвал Прокопьев? Первым делом, естестввенно, «Петя и волк», сам побывал некогда пионером Петей, ну потом «Золушку» и веронский балет, ну фильмы бы вспомнил, ну «Классическую симфонию», «Мимолетности». То есть Прокопьев о своем однофамильце имел представление, музыку его любил, но уж точно, кроме бормотания о Пете с волком и партии гобоя хранительница от него ничего бы не услышала, приняла бы его за посетителя ресторана «Древний Китай» и расстроилась бы за бывшего хозяина квартиры.
«Оно и к лучшему, оно и к лучшему, – повторял про себя Прокопьев. – Еще послушаю Прокофьева, почитаю о нем побольше, тогда и зайду…»
Приняв из рук буфетчицы Даши кружку пива, Прокопьев приглядел пустой столик. Мысли его вступили в праздное и странное колыхание. «Ниже по Дмитровке, прямо за домом Прокофьева, – Георгиевский монастырь, остатки его, нынче „Новый манеж“ с золочеными прапорцами, а прежде гараж силовых людей, а еще прежде – именно женский монастырь. В двадцатые годы ломали и вскрыли захоронение Марфы, Царской невесты, она была как живая, яды Бомелия убили и сохранили ее. В опере Римского-Корсакова ее любил опричник Грязной. Но причем тут Прокофьев? Римский-Корсаков был его учителем. Опричные люди оцепили здешние места в марте пятьдесят третьего, направляя народ в Колонный зал к утихшему Сталину, а в оцеплении лежал упокоившийся Прокофьев…»
Прокопьева и самого ввел в раздражение совершенно необязательный ход его мыслей. А главное, он никак не мог им управлять. Бог знает что, красавица Марфа, опричник Грязной, это все легенды, да и об обстоятельствах кончины композитора он знал понаслышке. Все это тени Камергерского…
– Уважаемый, – услышал Прокопьев, – не поможете ли вы в решении умственной задачи?
Оказывается, за столик к нему подсел неизвестный Прокопьеву человек. Перед ним лежала газета с умственными задачами. Человек сидел спиной к окну, к солнцу, и поначалу показался Прокопьеву черным. Или чернявым. По пригляде выяснилось, что он скорее темнорусый, а волосом пышен, локоны его спадали к плечам. Имел сосед эспаньолку и тонкие усы, им он уделял внимания, подумал Прокопьев, видимо, не меньше, нежели сериальный сыщик второго канала Эркюль Пуаро.
– Первая башня Кремля, – сказал сосед. – Девять букв. А?
– Что? Какая башня? – удивился Прокопьев.
Следовало бы сообщить соседу, что он теперь не склонен к разговору. Но вдруг умственная задача истребит в нем бессвязие мыслей? Откуда возник сосед? И когда? Рядом с газетой стоял бокал коньяка, а Прокопьев не слышал обращения соседа к буфетчице.
– Первая башня Кремля, – повторил человек с льющимися локонами и эспаньолкой. – Первая по времени создания, от нее пошли стены. Четвертая буква от конца «ц».
– Боровицкая! – обрадованно поспешил Прокопьев.
– Боровицкая… – протянул сосед, ручка его опустилась к газете. – Нет. Увы, увы! Лишняя буква в этой башне. А в нашей с вами башне тайник с колодцем…
– Тайницкая… – выдохнул Прокопьев.
– Верно. Верно! Тайницкая! – теперь уже обрадовался сосед. – Надо же. Кремль начался с тайника! С тайника. И до сих пор стоит.
Прокопьеву захотелось отсесть к кому-нибудь из знакомых. Или вообще уйти из закусочной. Но знакомцев в присутственном месте отчего-то не было.
– Да, ведь до сих пор стоит, – продолжил сосед, заполнив девять клеточек. – Горел, а стоит. Знать, замечательные были у нас тайницких дел мастера! Теперь такие перевелись.
Прокопьев не пожелал нужным что-либо высказать.
– Или не перевелись? – резко спросил сосед. Почти вскрикнул. Или выпалил.
Он и глазами будто выпалил в Прокопьева. И будто левый глаз его сощурился и стал зеленым. «Да нет, мерещится, – успокоил себя Прокопьев. – Глаза у него одинаковые, карие, и злокозненный прищур не возникал. Этак мне еще и тень царской невесты привидится…»