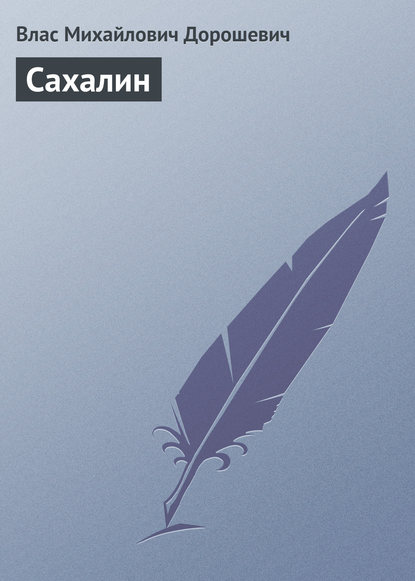По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Чувствую: с ума схожу. Мечусь! По публичным домам ночую, утром на галопы. Скачки. Со скачек в церкву бегу панихиду служить. По трактирам пью. Вечером домой на минутку бегу, узнать: как? что?!. Мечусь… Вхожу к ним, словно жду – вот-вот смертный приговор услышу. «Что?» – спрашиваю, а сам глянуть боюсь. А как скажут «ничего», – ног под собой не чувствую. Сколько разов после этого к себе в комнату побежишь, хохотать что-то начнешь, удержу нет. В подушку уткнешься, чтоб не слышно было, «ничего!» – в подушку кричишь. Сам-то хохочешь, а в нутре-то страшно. И вдруг «оне» представляются… Опять пить, опять из дому бегать, опять панихиды служить. Мечусь.
Метанье кончилось тем, что однажды на скачках к Викторову подошли:
– Вас вызывают в сыскную полицию.
– У меня руки-ноги отнялись… «Да нет, – думаю, – не за этим». Много у меня разных делов накопилось: потому за это время, говорю, закрутил игру вовсю, – у родных все вещи на игру перетаскал. Привезли меня в сыскную. В комнату вводят. Полутемная такая комната. Народу много было, спиной к окнам стояли, свет застили. Стол, сначала я не разобрал, что в нем такое! А как меня подвели – я и крикнул… Корзинка, белье, клеенка, плашка… Остолбенел я, кричу только: «Не подводите! Не подводите!» А Эффенбах меня в спину подталкивает: «Идите, – говорит, – идите, не бойтесь. Это из Брест-Литовска». – «Не подводите! – ору. – Во всем сознаюсь, только не подводите»…
Сидя в сыскном отделении, Викторов давился на отдушнике при помощи рубашки.
– Оне измучили… Покойница… Завяжу глаза, – здесь оне, со мной сидят… «Вот, – говорят, – Коля, где мы с тобой». Не выдержал. Да и смерти ждать страшно было.
Как и очень многие, Викторов ждал «беспременно веревки».
– Уж я вам говорю. Вы на суде не были? Меня прокурор обвинял, господин Хрулев…
– А защищал кто?
– Не помню. Не интересовался. Без надобности. А обвинял Хрулев по фамилии. Так вот посередке стол стоял, на нем бельецо ихнее, скомканное, слиплое, черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла… Как эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. На суде-то я сдрейфил, что сам говорил, что кругом говорили, – не сознавал. А только вот это-то помню, что господин Хрулев на корзинку показывали, требовали, чтобы и со мной то же сделали. На части, стало быть, разрубить!
Большинство этих знаменитых убийц уверены, что им «веревки не миновать за убийство».
– За этим-с и покойницу на части рубил и отсылал, – веревки боялся.
И большинству на суде, среди страха и ужаса, кажется, что прокурор требует смертной казни.
– Когда вышел приговор в каторгу – ушам не поверил, – говорит, как и очень многие, Викторов.
В каторге он жалуется на слабость здоровья:
– Пища плохая, и главная причина – ночи бессонные! Думаю все.
– О чем же?
– О прошлом. Господи, глупо как все было! Если бы вернуть!.. Ну, и спать тоже иногда боязно… Когда их душа там мучается… Грешница ведь была, блудная-с… Когда ихней душе там невмоготу…
– Что же? Является?
– Приходят.
И весь съежившись, вздрагивая, этот жалкий, тщедушный, весь высохший человек, понизив голос, говорит:
– Главная причина – денег нет… Панихидки по них отслужить не могу… Чтоб успокоились.
Специалист
Лет десять тому назад в Одессе было совершено громкое преступление.
Старик банкир Лившиц был найден задушенным в постели. Ничего украдено не было. Стоявшая в соседней комнате несгораемая касса с деньгами оказалась нетронутой. В кухне лежала связанная по рукам и ногам, с завязанным ртом, задыхавшаяся кухарка Лея Каминкер.
Она рассказала, что ночью в квартиру ворвались какие-то люди в масках, пригрозили ее убить, если будет кричать, связали, бросили и пошли в комнаты. Что там происходило, она не знает.
Начались розыски, про которые потом на суде рассказывались ужасы. Один из взятых по подозрению даже повесился в участке.
После очень долгих, тщетных, ошибочных поисков наконец удалось открыть, что на банкира Лившица охотилась целая шайка. Некто Томилин, многократный убийца, отчаянный головорез, отстреливавшийся от вооруженной погони. Его любовница Луцкер, воровка по профессии. Бродяга-громила Львов. Какая-то вдова, занимавшаяся покупкой краденого. В шайке участвовала и кухарка Каминкер, открывшая убийцам дверь и затем, по уговору, разыгравшая комедию, будто ее связали.
Странным представлялось только, почему убийцы не тронули кассы.
Они объяснили это тем, что приглашенный в компанию «специалист по взлому касс» Павлопуло испугался во время убийства и убежал.
Принялись отыскивать Павлопуло.
Оказалось, что он с тех пор совершил еще одно преступление.
Павлопуло попался при ограблении казначейства где-то в Крыму. Забравшись с вечера в казначейство, он за ночь взломал кассы, набил карманы деньгами и ждал, чтоб его сообщники открыли двери казначейства. Услыхав, что двери открывают, Павлопуло с карманами, набитыми деньгами, подошел. Двери открылись – перед Павлопуло была полиция.
– Один из моих помощников, подлец, продал! – со вздохом говорит Павлопуло.
Его судили, осудили, и он шел уже по дороге в Сибирь.
– В это время меня эти негодяи, которые Лившица – царство ему небесное – убили, и выдали! Всю карьеру мою перепортили.
– Какую же карьеру?
– У меня уж сменщик готов был. Все налажено. Как только приду на место, сейчас же уйду, за границу бы, и занимался бы и сейчас своей настоящей специальностью!
– Именно?
– Кассы бы открывал!
И Павлопуло говорит это с таким вздохом. У него сильный греческий акцент. Он говорит, собственно:
– Кассии открывали би!
И в слове «кассии» у него звучит даже нежность. Словно имя любимой женщины.
Павлопуло был возвращен с дороги, препровожден в Одессу, – и вот перед судом предстали: Каминкер, все время плакавшая, дрожавшая, тщедушная пожилая еврейка; Львов, здоровейший верзила с апатичным взглядом, все время рассматривавший потолок, стену, публику, судей, не обращавший ни малейшего внимания на то, что происходит, словно не его дело касалось! Все время без удержу рыдавшая и кричавшая: «Я не виновата! Я не виновата!» – вдова, покупательница заведомо краденого, оглохшая в тюрьме, ходившая на костылях, когда-то, должно быть, очень красивая, молодая еще, еврейка Луцкер, объявившая суду:
– Прошу не сажать меня около Томилина – он меня убьет.
В кандалах Томилин, успевший уж за это время много раз судиться, осужденный в каторгу, спокойный, очень кратко, но ясно и обстоятельно разъяснивший суду, как было дело.
И страшно интересовавший публику, судей, присяжных, в кандалах же, как уже осужденный в каторгу, живой, подвижной, средних лет, грек Павлопуло.
– Вы меня знали раньше? – спросил он у свидетеля-пристава, специалиста по розыскам.
– Нет, не встречал.
– А имя Пан вам было известно?
Метанье кончилось тем, что однажды на скачках к Викторову подошли:
– Вас вызывают в сыскную полицию.
– У меня руки-ноги отнялись… «Да нет, – думаю, – не за этим». Много у меня разных делов накопилось: потому за это время, говорю, закрутил игру вовсю, – у родных все вещи на игру перетаскал. Привезли меня в сыскную. В комнату вводят. Полутемная такая комната. Народу много было, спиной к окнам стояли, свет застили. Стол, сначала я не разобрал, что в нем такое! А как меня подвели – я и крикнул… Корзинка, белье, клеенка, плашка… Остолбенел я, кричу только: «Не подводите! Не подводите!» А Эффенбах меня в спину подталкивает: «Идите, – говорит, – идите, не бойтесь. Это из Брест-Литовска». – «Не подводите! – ору. – Во всем сознаюсь, только не подводите»…
Сидя в сыскном отделении, Викторов давился на отдушнике при помощи рубашки.
– Оне измучили… Покойница… Завяжу глаза, – здесь оне, со мной сидят… «Вот, – говорят, – Коля, где мы с тобой». Не выдержал. Да и смерти ждать страшно было.
Как и очень многие, Викторов ждал «беспременно веревки».
– Уж я вам говорю. Вы на суде не были? Меня прокурор обвинял, господин Хрулев…
– А защищал кто?
– Не помню. Не интересовался. Без надобности. А обвинял Хрулев по фамилии. Так вот посередке стол стоял, на нем бельецо ихнее, скомканное, слиплое, черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла… Как эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. На суде-то я сдрейфил, что сам говорил, что кругом говорили, – не сознавал. А только вот это-то помню, что господин Хрулев на корзинку показывали, требовали, чтобы и со мной то же сделали. На части, стало быть, разрубить!
Большинство этих знаменитых убийц уверены, что им «веревки не миновать за убийство».
– За этим-с и покойницу на части рубил и отсылал, – веревки боялся.
И большинству на суде, среди страха и ужаса, кажется, что прокурор требует смертной казни.
– Когда вышел приговор в каторгу – ушам не поверил, – говорит, как и очень многие, Викторов.
В каторге он жалуется на слабость здоровья:
– Пища плохая, и главная причина – ночи бессонные! Думаю все.
– О чем же?
– О прошлом. Господи, глупо как все было! Если бы вернуть!.. Ну, и спать тоже иногда боязно… Когда их душа там мучается… Грешница ведь была, блудная-с… Когда ихней душе там невмоготу…
– Что же? Является?
– Приходят.
И весь съежившись, вздрагивая, этот жалкий, тщедушный, весь высохший человек, понизив голос, говорит:
– Главная причина – денег нет… Панихидки по них отслужить не могу… Чтоб успокоились.
Специалист
Лет десять тому назад в Одессе было совершено громкое преступление.
Старик банкир Лившиц был найден задушенным в постели. Ничего украдено не было. Стоявшая в соседней комнате несгораемая касса с деньгами оказалась нетронутой. В кухне лежала связанная по рукам и ногам, с завязанным ртом, задыхавшаяся кухарка Лея Каминкер.
Она рассказала, что ночью в квартиру ворвались какие-то люди в масках, пригрозили ее убить, если будет кричать, связали, бросили и пошли в комнаты. Что там происходило, она не знает.
Начались розыски, про которые потом на суде рассказывались ужасы. Один из взятых по подозрению даже повесился в участке.
После очень долгих, тщетных, ошибочных поисков наконец удалось открыть, что на банкира Лившица охотилась целая шайка. Некто Томилин, многократный убийца, отчаянный головорез, отстреливавшийся от вооруженной погони. Его любовница Луцкер, воровка по профессии. Бродяга-громила Львов. Какая-то вдова, занимавшаяся покупкой краденого. В шайке участвовала и кухарка Каминкер, открывшая убийцам дверь и затем, по уговору, разыгравшая комедию, будто ее связали.
Странным представлялось только, почему убийцы не тронули кассы.
Они объяснили это тем, что приглашенный в компанию «специалист по взлому касс» Павлопуло испугался во время убийства и убежал.
Принялись отыскивать Павлопуло.
Оказалось, что он с тех пор совершил еще одно преступление.
Павлопуло попался при ограблении казначейства где-то в Крыму. Забравшись с вечера в казначейство, он за ночь взломал кассы, набил карманы деньгами и ждал, чтоб его сообщники открыли двери казначейства. Услыхав, что двери открывают, Павлопуло с карманами, набитыми деньгами, подошел. Двери открылись – перед Павлопуло была полиция.
– Один из моих помощников, подлец, продал! – со вздохом говорит Павлопуло.
Его судили, осудили, и он шел уже по дороге в Сибирь.
– В это время меня эти негодяи, которые Лившица – царство ему небесное – убили, и выдали! Всю карьеру мою перепортили.
– Какую же карьеру?
– У меня уж сменщик готов был. Все налажено. Как только приду на место, сейчас же уйду, за границу бы, и занимался бы и сейчас своей настоящей специальностью!
– Именно?
– Кассы бы открывал!
И Павлопуло говорит это с таким вздохом. У него сильный греческий акцент. Он говорит, собственно:
– Кассии открывали би!
И в слове «кассии» у него звучит даже нежность. Словно имя любимой женщины.
Павлопуло был возвращен с дороги, препровожден в Одессу, – и вот перед судом предстали: Каминкер, все время плакавшая, дрожавшая, тщедушная пожилая еврейка; Львов, здоровейший верзила с апатичным взглядом, все время рассматривавший потолок, стену, публику, судей, не обращавший ни малейшего внимания на то, что происходит, словно не его дело касалось! Все время без удержу рыдавшая и кричавшая: «Я не виновата! Я не виновата!» – вдова, покупательница заведомо краденого, оглохшая в тюрьме, ходившая на костылях, когда-то, должно быть, очень красивая, молодая еще, еврейка Луцкер, объявившая суду:
– Прошу не сажать меня около Томилина – он меня убьет.
В кандалах Томилин, успевший уж за это время много раз судиться, осужденный в каторгу, спокойный, очень кратко, но ясно и обстоятельно разъяснивший суду, как было дело.
И страшно интересовавший публику, судей, присяжных, в кандалах же, как уже осужденный в каторгу, живой, подвижной, средних лет, грек Павлопуло.
– Вы меня знали раньше? – спросил он у свидетеля-пристава, специалиста по розыскам.
– Нет, не встречал.
– А имя Пан вам было известно?