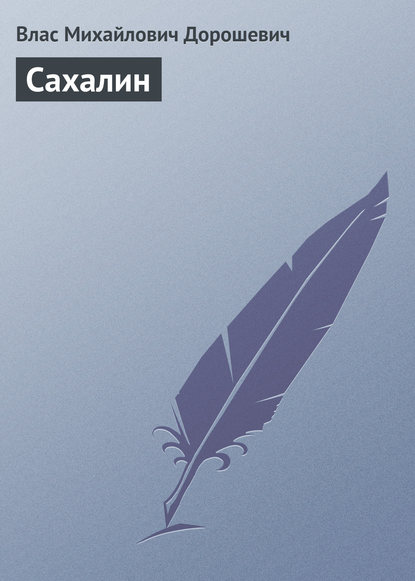По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сахалин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Атвэт давай! Два гуда ждэм. Булше ждать нэ жэлаем. Вдруг чья-то сильная рука отстранила кавказца.
– А вот постой, я с ним поговорю по-своему.
Передо мной стоял, руки в боки, здоровенный молодой каторжанин, кожаный картуз набекрень, рубаха-косоворотка с «кованым», вышитым воротником. Халат едва держится, накинут на одно плечо. Вид типичного ивана. Это был тюремная знаменитость А. Иван, не спускавший самому Патрину.[57 - Патрин, смотритель тюрьмы, был в то время ужасом всей каторги.]
– А п-позвольте у вас узнать, кто же такой вы будете, ежели вы не начальство?
– А тебе какое дело? Ведь я тебя не спрашиваю, кто ты такой!
– Нет-с, позвольте-с!
А. с вызывающим видом загородил мне дорогу.
– Ежели вы, как вы изволите говорить, не начальство, на каком же таком основании вы тюрьму осматриваете? А?
Кругом стояла толпа. Ждали, чем кончится.
Положение было критическое. Пригрозить начальством, жалобой – избави Бог – это значило бы лишиться всех симпатий арестантов. Уступить – сконфузить себя, уронить в глазах тюрьмы. Унизить его чем-нибудь – избави Бог, ведь сколько розог принял этот человек, чтобы добиться славы ивана. И вдруг все это пустить насмарку, уничтожить его обаяние в глазах тюрьмы. Надо было найти какой-нибудь выход. Выйти так, чтобы и он и я разошлись, не уронив своего достоинства.
Мне пришло в голову гаркнуть на него во всю глотку:
– Молчать! Шапку долой! Ты как смеешь так со мной разговаривать? А? Что я тебе, начальство, что ли, что ты смеешь в шапке передо мной стоять да мне грубить? Начальство я тебе?[58 - Иван должен быть дерзок только с начальством.]
Все кругом заревело от хохота.
Иван – после он мне сам говорил – «начал-то с бреха, а потом вижу, глупость делаю», сначала опешил, потом сам обрадовался тому выходу, захохотал, сняв шапку:
– А ежели не начальство, наше вам почтение! Милости просим! Ежели не начальство, виноват!
Все были довольны таким мирным исходом, смеялись, и среди смеющихся лиц мне показались знакомыми сжавшиеся от смеха в щелочки, черные, как маслины, живые, огнем горевшие глаза.
– Как фамилия?
– Павлопуло.
– А! Знаменитый Пан! А я ведь тебе привез поклон от твоего защитника, господина Ваховича!
Покойный Вахович действительно просил меня перед моей поездкой, увижу, кланяться его оригинальному клиенту.
Павлопуло засиял от счастья. Теперь уже глаза всех почтительно были обращены на него: знаменитость, которую проезжие люди по России помнят!
– Ах, как вы меня этим поддержали! Вы себе этого и представить не можете! – говорил мне потом Павлопуло. – На сто процентов ко мне уважение поднялось!
С этого и пошла наша дружба. Когда я приходил в вольную Александровскую тюрьму, меня всегда сопровождали двое – Павлопуло, которые разъяснял, что при мне нечего опасаться пить водку, играть в карты и т. п., и А., который считал своим долгом меня охранять:
– Мало ли какой дурак может вам скандал сделать? Ведь народ тут тоже. Одно слово – арестант.
На Сахалине служащие получают в складчину телеграммы «Российского Агентства», которые печатаются в местной типографии. Я брал оттиск, и Павлопуло каждый день заходил ко мне почитать телеграммы: в то время шла греко-турецкая война.
Он оседлывал нос золотым пенсне, которое так удивительно шло к арестантскому бушлату, читал и покачивал головой:
– Ца! Ца! Ца! Насих бьюти! Бьюти греков! Бьюти!
Был печален, озабочен, приходил в неистовство:
– Министри наси никуда не годятися! Министри! До чего довели! На сто ми тепери воевати мозем! Все Делианиси изделали!
А однажды объявил:
– Из-за этого Делианиса я в каторге!
– Как так?
– Павлопуло моя не настоящая фамилия. Я из Афин. У меня в Афинах брат адвокат есть. Только я, конечно, в молодости с пути сбился. А то бы хорошим механиком был. Но только когда в возраст пришел, решил остепениться. Выждал, когда мне по греческим делам давность вышла, – денег у меня было много, – купил себе землю в Греции. Тут наши министры такую политику повели – беда. Нищие совсем стали. Налоги страшные. Земля себя не окупает. Неурожаи. В долги влез. С аукциона все пошло. А жить я привык! Пришлось опять кассы вскрывать идти. Вот до Сахалина из-за министров наших и дошел!
Часто он говорил мне, и в голосе его слышалось столько за душу хватающей тоски.
– Что Сахалин! Не то меня мучает, что я на Сахалине. А то, что далеко я от Греции! Там что теперь делается! Бедная, бедная Греция!
Иногда он говорил:
– Пустили бы меня. В волонтеры бы пошел! Хоть бы умереть дали за Грецию!
И когда он говорил о Греции, в голосе его слышалось столько нежности, любви к родине.
Теперь уже Павлопуло отбыл свою сокращенную, за силою манифеста, каторгу, и я могу передать этот разговор.
– Павлопуло, – спросил я его однажды, – отчего вас никогда на мельнице нет?
– Да я там никогда и не бываю. Я каторги никогда и не отбывал. Каторжные работы отбывают только те, у кого денег нет.
– Как же так?
– А так, нанимаю за себя другого. Он и свой урок исполняет, и мой.
– И дорого платите?
– Пятачок в день. Мне есть расчет. Я больше наживаю.
– Чем же вы занимаетесь?
– Торгую в тюрьме старьем, деньги в рост даю.
– И помногу процентов берете?
– Да игрокам даю, как у нас водится, до петухов, на одни сутки. Сто процентов в сутки! Процент хороший! – улыбнулся он.
Пан остался аристократом и здесь: ростовщик в тюрьме лицо почетное и уважаемое. Павлопуло, как я в этом убедился, как паук, высасывал всю тюрьму.
– А вот постой, я с ним поговорю по-своему.
Передо мной стоял, руки в боки, здоровенный молодой каторжанин, кожаный картуз набекрень, рубаха-косоворотка с «кованым», вышитым воротником. Халат едва держится, накинут на одно плечо. Вид типичного ивана. Это был тюремная знаменитость А. Иван, не спускавший самому Патрину.[57 - Патрин, смотритель тюрьмы, был в то время ужасом всей каторги.]
– А п-позвольте у вас узнать, кто же такой вы будете, ежели вы не начальство?
– А тебе какое дело? Ведь я тебя не спрашиваю, кто ты такой!
– Нет-с, позвольте-с!
А. с вызывающим видом загородил мне дорогу.
– Ежели вы, как вы изволите говорить, не начальство, на каком же таком основании вы тюрьму осматриваете? А?
Кругом стояла толпа. Ждали, чем кончится.
Положение было критическое. Пригрозить начальством, жалобой – избави Бог – это значило бы лишиться всех симпатий арестантов. Уступить – сконфузить себя, уронить в глазах тюрьмы. Унизить его чем-нибудь – избави Бог, ведь сколько розог принял этот человек, чтобы добиться славы ивана. И вдруг все это пустить насмарку, уничтожить его обаяние в глазах тюрьмы. Надо было найти какой-нибудь выход. Выйти так, чтобы и он и я разошлись, не уронив своего достоинства.
Мне пришло в голову гаркнуть на него во всю глотку:
– Молчать! Шапку долой! Ты как смеешь так со мной разговаривать? А? Что я тебе, начальство, что ли, что ты смеешь в шапке передо мной стоять да мне грубить? Начальство я тебе?[58 - Иван должен быть дерзок только с начальством.]
Все кругом заревело от хохота.
Иван – после он мне сам говорил – «начал-то с бреха, а потом вижу, глупость делаю», сначала опешил, потом сам обрадовался тому выходу, захохотал, сняв шапку:
– А ежели не начальство, наше вам почтение! Милости просим! Ежели не начальство, виноват!
Все были довольны таким мирным исходом, смеялись, и среди смеющихся лиц мне показались знакомыми сжавшиеся от смеха в щелочки, черные, как маслины, живые, огнем горевшие глаза.
– Как фамилия?
– Павлопуло.
– А! Знаменитый Пан! А я ведь тебе привез поклон от твоего защитника, господина Ваховича!
Покойный Вахович действительно просил меня перед моей поездкой, увижу, кланяться его оригинальному клиенту.
Павлопуло засиял от счастья. Теперь уже глаза всех почтительно были обращены на него: знаменитость, которую проезжие люди по России помнят!
– Ах, как вы меня этим поддержали! Вы себе этого и представить не можете! – говорил мне потом Павлопуло. – На сто процентов ко мне уважение поднялось!
С этого и пошла наша дружба. Когда я приходил в вольную Александровскую тюрьму, меня всегда сопровождали двое – Павлопуло, которые разъяснял, что при мне нечего опасаться пить водку, играть в карты и т. п., и А., который считал своим долгом меня охранять:
– Мало ли какой дурак может вам скандал сделать? Ведь народ тут тоже. Одно слово – арестант.
На Сахалине служащие получают в складчину телеграммы «Российского Агентства», которые печатаются в местной типографии. Я брал оттиск, и Павлопуло каждый день заходил ко мне почитать телеграммы: в то время шла греко-турецкая война.
Он оседлывал нос золотым пенсне, которое так удивительно шло к арестантскому бушлату, читал и покачивал головой:
– Ца! Ца! Ца! Насих бьюти! Бьюти греков! Бьюти!
Был печален, озабочен, приходил в неистовство:
– Министри наси никуда не годятися! Министри! До чего довели! На сто ми тепери воевати мозем! Все Делианиси изделали!
А однажды объявил:
– Из-за этого Делианиса я в каторге!
– Как так?
– Павлопуло моя не настоящая фамилия. Я из Афин. У меня в Афинах брат адвокат есть. Только я, конечно, в молодости с пути сбился. А то бы хорошим механиком был. Но только когда в возраст пришел, решил остепениться. Выждал, когда мне по греческим делам давность вышла, – денег у меня было много, – купил себе землю в Греции. Тут наши министры такую политику повели – беда. Нищие совсем стали. Налоги страшные. Земля себя не окупает. Неурожаи. В долги влез. С аукциона все пошло. А жить я привык! Пришлось опять кассы вскрывать идти. Вот до Сахалина из-за министров наших и дошел!
Часто он говорил мне, и в голосе его слышалось столько за душу хватающей тоски.
– Что Сахалин! Не то меня мучает, что я на Сахалине. А то, что далеко я от Греции! Там что теперь делается! Бедная, бедная Греция!
Иногда он говорил:
– Пустили бы меня. В волонтеры бы пошел! Хоть бы умереть дали за Грецию!
И когда он говорил о Греции, в голосе его слышалось столько нежности, любви к родине.
Теперь уже Павлопуло отбыл свою сокращенную, за силою манифеста, каторгу, и я могу передать этот разговор.
– Павлопуло, – спросил я его однажды, – отчего вас никогда на мельнице нет?
– Да я там никогда и не бываю. Я каторги никогда и не отбывал. Каторжные работы отбывают только те, у кого денег нет.
– Как же так?
– А так, нанимаю за себя другого. Он и свой урок исполняет, и мой.
– И дорого платите?
– Пятачок в день. Мне есть расчет. Я больше наживаю.
– Чем же вы занимаетесь?
– Торгую в тюрьме старьем, деньги в рост даю.
– И помногу процентов берете?
– Да игрокам даю, как у нас водится, до петухов, на одни сутки. Сто процентов в сутки! Процент хороший! – улыбнулся он.
Пан остался аристократом и здесь: ростовщик в тюрьме лицо почетное и уважаемое. Павлопуло, как я в этом убедился, как паук, высасывал всю тюрьму.