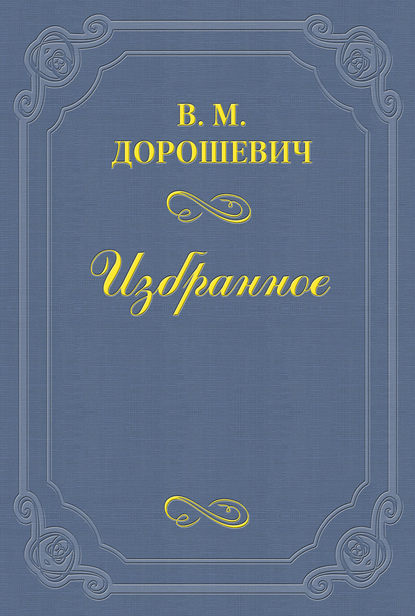По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вихрь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отлично-с! Отлично! Ты всё это и скажи нам. Партии, к которой ты принадлежишь. Созови нас и скажи. Ты не знаешь, другие, может быть, знают и объяснят! Но так нельзя. Ты не имеешь права. Ты – имя.
– Было!
– Сейчас оно опять воспрянет, как лозунг разумной умеренности и прогресса! И это имя создал как ты, так помогли создать тебе и мы. Ты не смеешь так… Ты лидер!
– Оставь, пожалуйста, глупые слова! Извини меня, но ты напоминаешь мне нашу горничную Акулину. Она «ужасно как рада» тому, что происходит, – потому что солдаты по улицам ходят так ровно, хорошо и «бесперечь музыка играет!»
– Оскорбляй меня!
– Я не оскорблять тебя хочу. А только сказать: мы друг друга никогда не поймём. Для тебя всегда и всё ясно. Если б Пилат тебя спросил: «Что есть истина!» – ты ответил бы ему: «резолюция». В данную минуту «резолюция», как в другую минуту ответил бы, быть может: «предначертания министра». Ты спортсмен. Во всём владелец конского завода! Помнишь, когда мы ездили в Москву на учительский съезд, ты, захлёбываясь, спрашивал меня у Тестова: «Ты сколько учителей привёз? Я сорок. Мои, брат, вот как подобраны. Один к одному! Все как один. В один голос голоса подавать будут». Словно ты привёз стаю гончих. Спортсмен! И ты не виноват. В тебе только говорит кровь твоих предков, они подбирали гончих по голосам. Ты во всём видишь охоту!
– Я не имею причин стыдиться моих предков.
– Ты сказал об этом Зеленцову, когда просился у него в подъесаулы?
– Ты невыносим!
– И я не уговариваю тебя стыдиться своих предков. Избави Бог! Они выше всего ставили честь, и ты по наследственности выше всего ставишь честь. Она для тебя дороже всего. Без неё ты, действительно, не можешь жить. Необходимый продукт. И потому делаешь её себе из всего. Когда ты был предводителем, ты с гордостью говорил: «Уж даже если мы, предводители дворянства, выступаем с требованиями»… Что ты этим хотел сказать? Самое ли это важное сословие, или уж такое никуда непригодное, что, мол, «если даже и оно поняло». Не разберёшь! Но, во всяком случае, ты делал себе из этого честь! Когда тебя за «крайний либерализм» забаллотировали, ты из этого сделал себе честь: «Теперь, когда я не являюсь представителем узких сословных интересов»!.. Ты камер-юнкер. Если тебя произведут в камергеры, – ты будешь гордиться ключом. Если лишат камер-юнкерства, будешь гордиться: «независимый человек!» Если тебя выберут в Государственную Думу, – ты будешь очень гордиться: «представитель народа», но если забаллотируют, – гордости твоей не будет границ: «Мы, оппозиция!» Ты спортсмен. Наездник. И везде прискачешь первым. Я несколько не таков. Извини меня.
Семён Семёнович поднялся весь красный:
– Пётр Петрович вы…
Но не выдержал:
– Значит, ты теперь без партии?
– Я наедине со своей совестью! Оставь меня, пожалуйста, в покое. Прощай!
Семён Семёнович как бомба вылетел из кабинета.
– Он у вас с ума сошёл. Пошлите за психиатром! – выпалил он, на ходу целуя руку у Анны Ивановны.
Та так и застыла на месте.
XXIV
И вот, Пётр Петрович Кудрявцев стоял у входа в свою, «кудрявцевскую», гостиную, где г. Стефанов молодым, бесконечно весёлым и радостно-задорным голосом сравнивал Россию, залитую кровью и борющуюся Россию, с прокисшей бутылкой кваса.
Кто-то из гостей хотел зачем-то пройти в соседнюю комнату, открыл портьеру.
– А, Пётр Петрович!..
Пришлось войти и улыбаться дамам.
Не успел ещё Пётр Петрович сделать общего поклона, как перед ним уже стоял и шаркал г. Стефанов.
– Его превосходительство просил приветствовать вас и поздравить глубокоуважаемую Анну Ивановну! Его превосходительство страшно сожалеет… Но такое время! Такая масса неотложных дел!.. Его превосходительство крайне сожалеет, что принуждён ограничиться только посылкой через меня этих цветов…
В углу стояла колоссальная корзина чайных роз.
– И не мог явиться сам, чтоб засвидетельствовать своё почтение вам и поздравить глубокоуважаемую Анну Ивановну…
Пётр Петрович покраснел и виновато взглянул на жену.
«За всеми этими делами» только он позабыл, что сегодня день рождения его жены.
– Благодарю его превосходительство… Слишком… право, слишком любезно.
И перездоровавшись со всеми присутствующими он сказал, насколько позволяли обстоятельства суше, такому любезному гостю жены:
– А подходя, я невольно слышал, как вы изволили острить относительно России. Я хотел сказать вам по этому поводу…
Анна Ивановна смотрела на него умоляюще.
– Впрочем, нет… Я только хотел сказать, что очень завидую вам: вы можете шутить в такие минуты.
– Слово в слово слова его превосходительства! – радостно воскликнул г. Стефанов и даже чуть ли не всплеснул руками. – Его превосходительство говорит, что шутить не время. Необходимо повсеместно военное положение. Предоставление губернаторам неограниченной власти. Чтоб всё повиновалось и шло в ногу. А то помилуйте! То ведомство не подвластно, это не подвластно. Всё в разброде. Печать врёт, хотя бы… До чего распустили. О том, например, собрании…
Петра Петровича передёрнуло:
– Позволяют себе печатать: «разошлось не по своему желанию». Насмешка! Или пишут об этих похоронах: «Вчера казаки выезжали за город». И только! Издевательство? Публика ни о чём об этом не должна знать.
– Но весь город… – тихо вставил кто-то.
– Верьте мне: одни знают, а другие даже какой сегодня день не знают! А тут все узнают. Его превосходительство вызывает цензора. Тот: «Ничего в этом не вижу нецензурного. Казаки выезжали – и выезжали. Не война, что о передвижении войск нельзя сообщать». Как вам это нравится? Его превосходительство, могу сообщить вам это пока конфиденциально, послал в Петербург представление о немедленном введении военного положения.
– Ох, дал бы Бог! – молитвенно вздохнула одна из дам.
– Нам с Аней это всё равно! – каким-то хриплым голосом сказал Пётр Петрович. – Мы уезжаем за границу.
Жена смотрела на него с изумлением.
Он улыбнулся ей:
– Разве ты ещё, Аня, не сказала гостям, что мы решили на днях ехать за границу?
Начались «ахи», «охи».
– В такое время? Теперь?
– Его превосходительство будет страшно сожалеть! Страшно! Уверяю вас, страшно!
– А мы думали, вы в Думу!
– И в Думу не будете? Как?
– Куда?