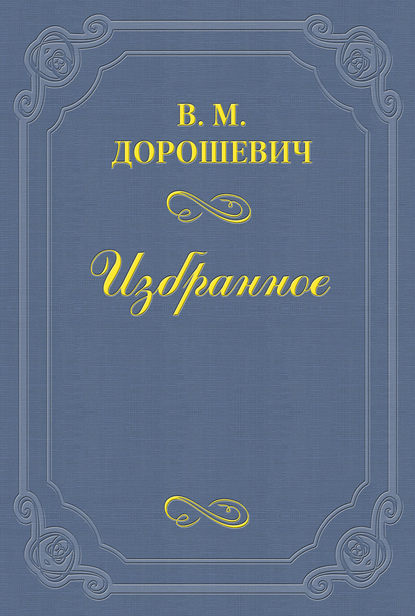По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вихрь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Перед входом на кладбище толпа разделилась.
Среди убитых было пять русских и трое евреев.
Часть пошла за одними, часть – за другими.
– Я за еврейчиками!
– Я к еврейчикам приду потом!
Услышал Пётр Петрович сзади себя, невольно улыбнулся и оглянулся.
Говорили двое рабочих. Старый и молодой. Оба с серьёзными, угрюмыми лицами.
А к солдату, которого вели под руки впереди него двое рабочих, все обращались:
– Солдатик!
В воротах кладбища у Петра Петровича болезненно сжалось сердце.
Близ церкви, у самой дороги, как раз на пути тридцатитысячной толпы – их семейное «место».
Могилы его отца, его матушки, могилка его сына, которую весной жена сама убирала цветами.
«Их уж, вероятно, топчут сейчас».
И возмущение поднялось со дна его души, и он уж ненавидел эту толпу, её пение, её «знамёна».
«Какое мне дело до ваших движений, революций. Не топчите моего горя! Не топчите моего сердца! Не топчите того, что мне дороже всего на свете!»
Вот и их «место».
Проходя мимо, Пётр Петрович вынул платок и, делая вид, что сморкается, несколько раз вытер глаза.
Могила его сына, вся в цветах, стояла нетронутая, словно ветерок только дышал вокруг неё.
Толпа осторожно, деликатно обходила решётки, памятники, деревянные кресты, могильные холмики, и ничья рука не протянулась, чтоб сорвать хоть один цветок.
Цветы стояли свежие и нетронутые, и теплились, мигая, лампадки перед маленькими образками в крестах.
Петру Петровичу вспомнились похороны Чехова, на которых он был в Москве.
Самые поэтичные из похорон, которые когда-либо где-либо происходили.
Но когда интеллигентная толпа ушла с кладбища, после неё осталось месиво из растоптанных могил, поломанных крестов, втоптанных в грязь цветов, поваленных решёток, даже сдвинутых памятников.
За всю дорогу Пётр Петрович видел одного пьяного.
С огромной чёрной бородой и бледным видом, он махал рукой и кричал:
– Я говорю, пусть поют так, как пели первые, и им ничего не будет! Пусть поют так, как пели первые! ничего не будет! И ничевошеньки не будет!
Его окружали рабочие с красными значками на груди, что-то говорили. Группа, скрыв пьяного в средине, пошла куда-то в сторону, и всё стало тихо.
Под белые глазетовые гроба с венками из живых цветов поддели полотенца.
Задребезжал старый голос священника.
– Вечная память! Вечная память! – могуче полилось кругом могил.
А другая огромная толпа вдали слушала ораторов и пела русскую марсельезу.
И на фоне доносившихся издали возгласов марсельезы могучими аккордами лилось:
– Вечная память!
Под светлым, ясным золотом солнечных лучей.
Вдали на холмах был виден город, казавшийся скучным и будничным.
А тут звенела марсельеза и гремела вечная память.
Пётр Петрович пошатнулся.
Было что-то странное, страшное, торжественное, новое, чем наполнялась грудь, чем наполнялся воздух кругом, что поднималось выше, выше к небесам, разливалось шире, шире по земле.
«Вечная память» вокруг могил умолкла.
Только издали доносился мотив марсельезы.
Раздались рыданья.
Крик:
– Сыночек мой! Сыночек мой!
– Перестаньте! Не плачьте! – раздался вдруг отчаянный, истерический голос. – Не расстраивайте всех! Клянёмся, мы и так расстроены все! Мы и так едва стоим.
И личное горе, – какое горе! – вдруг стихло и смолкло.
Петра Петровича охватил ужас: перед ним свершалось какое-то чудо.
XXI
– Вековые рабы! Граждане! Товарищи! – раздался сильный, молодой, звенящий голос, и всё кругом замерло.
Слепой сказал бы, что на кладбище нет ни души.
– Кто это говорит? – шёпотом спросил Пётр Петрович у соседа, старого рабочего.