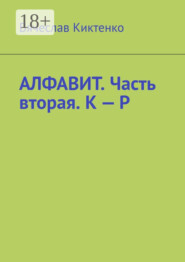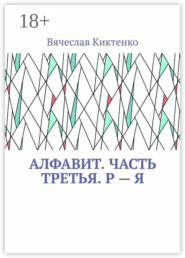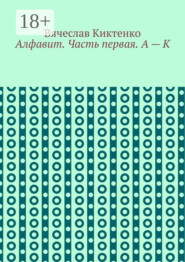По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
***
И чинил. И утешался:
«Вишь, рубай сижу-рубаю нынче – думаю.
Рифма – рубь. Рубли рубаю нынче – думаю.
Ну а фули? Хали-гали, мат на шахе, шах на мэ,
Славно думаю-рубаю нынче – думаю…»
***
Физиология
Думаю, не просто так, но глобально-космически озаботился Великий вопросами пола. И очень был недоумен.
– «Зачем? – возмущался в пивной перед синяками – зачем несовершенство: у него отросток, недоросший до совершенства, у неё дыра, недорытая до Истины? Вот ты, пропилея кругломордая – обратился с кафедры к одной из постоялиц (пропилеями называл пьюшек, пропоиц, завсегдатаюшек пивняка) – почему тынедовольна мужем, мужиком вообще? Недовольна. А собой – довольна. Довольна, гадина! Вот мужа у тебя и нет. А если б все были андрогинами, гермафродитами – все были б довольны! Правду реку?..» – вопросил возбуждённо. И когда «пропилея» послала его подальше, возопил, стоя на шаткой половице пивняка, как на ветхой клубной сцене:
– «Молилась ли ты на хер, Дездемона?..»
Прохрипев неизменное гы-ы-ы, срыгнул, растёр рыготину носком «говнодава», хрипло пропел:
«Ни моды, ни мёда, ни блуда, ни яда,
Ни сада… какая ты, к ляду, наяда?..»
***
Нашлась запись. Не очень пристойная, но искренняя. Как последняя «Правда Жизни». Сделана, похоже (после сопоставления некоторых дат и событий), в пограничной ситуации: где-то после разрыва с любимой Тонькой, попыткой суицида и тюрьмой. А скорее всего, прямо в тюрьме. Клочок мятой бумажки был вклеен в тетрадку явно после отсидки. Тетрадок там, вроде, не положено.
Всего строфа, но сколько вместилось!.. боль, горечь Великого. Плач великого Неандертальца о нелепости кроманьонского мира. Обида…
«И понял я, что я с собою дружен,
И понял я, что мне никто не нужен,
Ни терпкий х…, ни сладкая п…
Я сам в себе. И я в себе всегда»
***
Из «гордынок»:
«Беда в том, что я не талантлив, а гениален. Это плохо срастается на земле. Читайте, скоты, шедевр Бодлера „Альбатрос“. Там о больших крыльях, мешающих ходить по земле… я птица с большими крыльями!..»
***
Птицу с большими крыльями стреножили. Изловили. И не менты, имевшие к тому некоторые основания, поскольку пару раз торговцы колхозного рынка жаловались на рыжего малого. Мол, приценивается, приценивается, торгуется якобы… а потом чего-нибудь не досчитаешься на прилавке. Но, за неимением улик, отпускали. Малый успевал избавиться от добытого. Клептомания, клептомания… недуга этого было никак не утаить, не избыть. Что было, то было… мучило…
Нет, не менты изловили, — работники военкомата. И снарядили в стройбат. Человеку с двумя судимостями, пусть даже по малолетству, доверить «ружо» не могли.
– «А поди-ка, попаши…» — сказали форменные товарищи. И пошёл…
***
Когда Великий, в ряду многих заточённых на «Губу», подпал под безраздельную власть иезуитски умного, но очень подлого начальника, чуть было не пропал. Ибо подпал под его изощрённые издевательства. Хорошо ещё, не столько физические, сколько моральные. Даже интеллектуальные. Что ранило, впрочем, не менее чем зуботычины.
Однажды злодей задался ехидным вопросцем, логической ловушкой армейского философа: а может ли злое добро торжествовать над добрым злом? Великий в силу природно чистого идиотизма, единственный решился, и – разрешил неразрешимую, казалось, апорию. Гаркнув неизменное «Гы-ы-ы…», дерзко выдвинулся:
– «Может!»
– «Как?»
– «А так – злой мент ловит и прячет за решётку милейшего маньяка…».
Был отмечен начальством. Досрочно переведён из «Губы» на общие основания.
***
Общие основания и подкосили. Даже едва не прервали мерцающую нить, ниточку жизни, призрачно, полупрозрачно, едва-едва зыблющейся жизнёшечки нить…
Стоял Великий на дне котлована, вырытого для нового складского корпуса, ждал подачи сверху очередного бревна. А нетрезвый товарищ возьми да урони то бревно, метров этак с трёх, прямо на Великого. И пробило оно несчастливую, ещё огненно-рыжую башку, почти до мозгов.
Отправили бездыханного в военный госпиталь имени Бурденко, в нейрохирургию. Повредили там скальпелем великие мозги, или не очень уже великие, или не очень уж повредили, теперь не рассудить. Был чудак-человек, остался чудак-человек. Внешне не изменился, как рассудить?
Написал, правда, по горячим следам нечто придурковатое. Ну, так и много чего этакого выходило из-под злат-пера.
Лежал, отлёживался… бредил бабой в госпитале, грезил, и – нагрезил. Или набредил. Наваял про то, как нежданно-негаданно явится к ней, пока ещё не определённой, но уже возлюбленной. На всю оставшуюся жизнь. Тоньки давно след простыл, что попусту грезить? И хотя память о ней до конца не простыла, наваял не о ней, а о некой грёзе. О том, как явится в одно прекрасное утро, неузнанным… и она, эта баба-грёза, – вдруг! – полюбит его. Просто так, ни за что…
Целиком грёза под названием: «На заре.Не буди, не вздумай!» так и не обнаружена. Обрывочек только:
«…я пришёл к тебе с приветом
От Бурденко…
Но об этом
Я рассказывать не стану
И подмигивать не буду,
Фигушки!..
Бочком к дивану,
К сонной, тёплой кулебяке
И чинил. И утешался:
«Вишь, рубай сижу-рубаю нынче – думаю.
Рифма – рубь. Рубли рубаю нынче – думаю.
Ну а фули? Хали-гали, мат на шахе, шах на мэ,
Славно думаю-рубаю нынче – думаю…»
***
Физиология
Думаю, не просто так, но глобально-космически озаботился Великий вопросами пола. И очень был недоумен.
– «Зачем? – возмущался в пивной перед синяками – зачем несовершенство: у него отросток, недоросший до совершенства, у неё дыра, недорытая до Истины? Вот ты, пропилея кругломордая – обратился с кафедры к одной из постоялиц (пропилеями называл пьюшек, пропоиц, завсегдатаюшек пивняка) – почему тынедовольна мужем, мужиком вообще? Недовольна. А собой – довольна. Довольна, гадина! Вот мужа у тебя и нет. А если б все были андрогинами, гермафродитами – все были б довольны! Правду реку?..» – вопросил возбуждённо. И когда «пропилея» послала его подальше, возопил, стоя на шаткой половице пивняка, как на ветхой клубной сцене:
– «Молилась ли ты на хер, Дездемона?..»
Прохрипев неизменное гы-ы-ы, срыгнул, растёр рыготину носком «говнодава», хрипло пропел:
«Ни моды, ни мёда, ни блуда, ни яда,
Ни сада… какая ты, к ляду, наяда?..»
***
Нашлась запись. Не очень пристойная, но искренняя. Как последняя «Правда Жизни». Сделана, похоже (после сопоставления некоторых дат и событий), в пограничной ситуации: где-то после разрыва с любимой Тонькой, попыткой суицида и тюрьмой. А скорее всего, прямо в тюрьме. Клочок мятой бумажки был вклеен в тетрадку явно после отсидки. Тетрадок там, вроде, не положено.
Всего строфа, но сколько вместилось!.. боль, горечь Великого. Плач великого Неандертальца о нелепости кроманьонского мира. Обида…
«И понял я, что я с собою дружен,
И понял я, что мне никто не нужен,
Ни терпкий х…, ни сладкая п…
Я сам в себе. И я в себе всегда»
***
Из «гордынок»:
«Беда в том, что я не талантлив, а гениален. Это плохо срастается на земле. Читайте, скоты, шедевр Бодлера „Альбатрос“. Там о больших крыльях, мешающих ходить по земле… я птица с большими крыльями!..»
***
Птицу с большими крыльями стреножили. Изловили. И не менты, имевшие к тому некоторые основания, поскольку пару раз торговцы колхозного рынка жаловались на рыжего малого. Мол, приценивается, приценивается, торгуется якобы… а потом чего-нибудь не досчитаешься на прилавке. Но, за неимением улик, отпускали. Малый успевал избавиться от добытого. Клептомания, клептомания… недуга этого было никак не утаить, не избыть. Что было, то было… мучило…
Нет, не менты изловили, — работники военкомата. И снарядили в стройбат. Человеку с двумя судимостями, пусть даже по малолетству, доверить «ружо» не могли.
– «А поди-ка, попаши…» — сказали форменные товарищи. И пошёл…
***
Когда Великий, в ряду многих заточённых на «Губу», подпал под безраздельную власть иезуитски умного, но очень подлого начальника, чуть было не пропал. Ибо подпал под его изощрённые издевательства. Хорошо ещё, не столько физические, сколько моральные. Даже интеллектуальные. Что ранило, впрочем, не менее чем зуботычины.
Однажды злодей задался ехидным вопросцем, логической ловушкой армейского философа: а может ли злое добро торжествовать над добрым злом? Великий в силу природно чистого идиотизма, единственный решился, и – разрешил неразрешимую, казалось, апорию. Гаркнув неизменное «Гы-ы-ы…», дерзко выдвинулся:
– «Может!»
– «Как?»
– «А так – злой мент ловит и прячет за решётку милейшего маньяка…».
Был отмечен начальством. Досрочно переведён из «Губы» на общие основания.
***
Общие основания и подкосили. Даже едва не прервали мерцающую нить, ниточку жизни, призрачно, полупрозрачно, едва-едва зыблющейся жизнёшечки нить…
Стоял Великий на дне котлована, вырытого для нового складского корпуса, ждал подачи сверху очередного бревна. А нетрезвый товарищ возьми да урони то бревно, метров этак с трёх, прямо на Великого. И пробило оно несчастливую, ещё огненно-рыжую башку, почти до мозгов.
Отправили бездыханного в военный госпиталь имени Бурденко, в нейрохирургию. Повредили там скальпелем великие мозги, или не очень уже великие, или не очень уж повредили, теперь не рассудить. Был чудак-человек, остался чудак-человек. Внешне не изменился, как рассудить?
Написал, правда, по горячим следам нечто придурковатое. Ну, так и много чего этакого выходило из-под злат-пера.
Лежал, отлёживался… бредил бабой в госпитале, грезил, и – нагрезил. Или набредил. Наваял про то, как нежданно-негаданно явится к ней, пока ещё не определённой, но уже возлюбленной. На всю оставшуюся жизнь. Тоньки давно след простыл, что попусту грезить? И хотя память о ней до конца не простыла, наваял не о ней, а о некой грёзе. О том, как явится в одно прекрасное утро, неузнанным… и она, эта баба-грёза, – вдруг! – полюбит его. Просто так, ни за что…
Целиком грёза под названием: «На заре.Не буди, не вздумай!» так и не обнаружена. Обрывочек только:
«…я пришёл к тебе с приветом
От Бурденко…
Но об этом
Я рассказывать не стану
И подмигивать не буду,
Фигушки!..
Бочком к дивану,
К сонной, тёплой кулебяке