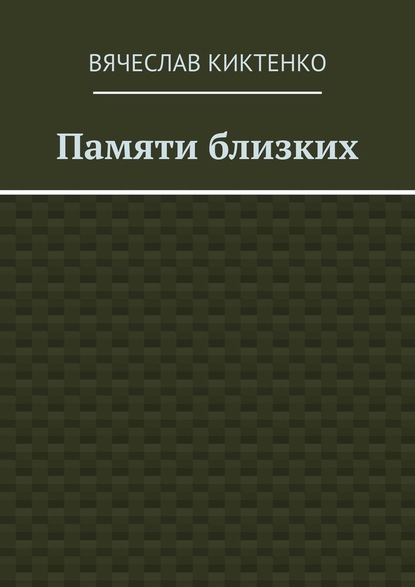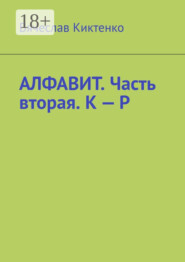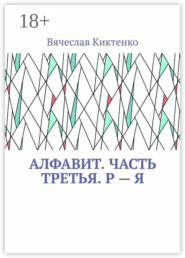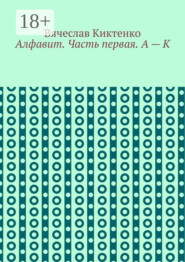По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Памяти близких. Сборник эссе
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ещё одна скрижаль.
Проходит время,
Но – что мне время?
Я терпелив,
я подождать могу,
Пока взойдёт за жертвенным Тельцом
Немыслимое чудо Ориона,
Как бабочка безумная, с купелью
В своих скрипучих проволочных лапках,
Где были крещены Земля и Солнце.
Я подожду,
пока в лучах стеклянных
Сам Сириус —
с египетской, загробной,
собачьей головой —
Взойдёт…»
(Из стихотворения «Телец, Орион, Большой пёс»)
Такое без любви не пишется, не поётся. Более того – этакое может написать лишь человек наделённый не только огромным даром (это даже лишне говорить), но соизмеряющий себя – обычного двуногого – со всей Вселенной. Не меньше! Одной земли мало. Земля не только кормит, но ведь и погребает. Недаром у Тарковского возникают такие жуткие строки, вообще-то не присущие поэту Света:
«…мать подошла, и в окно заглянула,
И потянуло землёй из окна…»
Связали нас общие знакомые, писатели старшего возраста из Средней Азии. Я влюбился в поэзию Тарковского по книге «Вестник», вышедшей в 1969 году в издательстве «Советский писатель» тиражом ныне немыслимым для поэтической книги – 20000 экз. Но и этого тогда, в 60-годах, было очень мало. Это была пора стихотворного буйноцвета (Асадов и Евтушенко, к примеру, издавались полумиллионными тиражами), к стихам тянулись все: мальчики, девушки, юноши, пенсионеры… там, иногда, прорывались социальные протесты – вот к ним чаще всего, а не к собственно поэзии, и тянулась публика, уставшая вычитывать в газетах нечто этакое, «между строк». А вот поэтам, собиравшим стадионы, позволялось (в меру, в меру, конечно) говорить более-менее открыто о наболевшем в обществе. Но не Тарковскому. Да ему, «звездолюбцу», это и не требовалось. Он, хотя и земной, был настоящим олимпийцем.
«…как раковину мир переполняя,
Шумит по-олимпийски пустота…»
Всю жизнь он был пронизан иным – и высоким, и глубинным одновременно. К «шестидесятникам» относился с лёгкой доброжелательной усмешкой. А вот когда стране угрожало что-то действительно серьёзное, страшное, просто шёл и воевал. Был ранен, потерял ногу. Написал несколько замечательных стихотворений о войне. Когда я его спросил:
– «Арсений Александрович, а почему у Вас, у фронтовика, так мало стихотворений о войне»?» Он махнул рукой и ответил странно, даже невразумительно, как показалось:
– «А-а, спас на крови…»
Я, в недоумении, попросил растолковать. Он глянул не меня также недоуменно: мол, как современный молодой человек, да ещё поэт, может не понимать таких элементарных вещей.
– «Понимаете, Слава – задумчиво начал он… да всё Вы понимаете! – вдруг раздражённо выкликнул, чуть ли не вскричал – ну сколько можно спасаться на крови, бесконечно писать и писать стихи о войне, где, может быть, и не был вовсе… стихи, как правило, бездарные. Ну, конечно, денежное это дело, карьеру двигает, но…»
Он снова махнул рукой и замолчал. А я вспоминал его пронзительные строки:
«Красный фонарик стоит на снегу,
Что-то я вспомнить его не могу,
Может быть, это обрывок бинта,
Может быть, это листок-сирота…»
Стихи, стихи… Анна Ахматова говорила, что поэту заниматься переводами в творческом расцвете, это всё равно, что есть собственные мозги. Но занимались этим практически все. – Кормиться-то, жить-то надо…
Тарковский стоит здесь особняком. Он нашёл своё: Среднюю Азию, И влюбился в неё, и прожил там долго (с перерывами, конечно, с отъездами в Россию, в Москву, к издателям и родным), влюбился в её поэзию, и его переводы стали классикой.
Сколько же он перевёл! И с какой горечью писал в одном из своих шедевров:
«…Розы сахариной породы,
Соловьиная пахлава…
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова!..»
Его переводы – классика. Возможно потому ещё (это лишь моя догадка), что Тарковские – шамхалы Дагестана. Цари. Это царский род. Рассказывали мои старшие товарищи, друзья Тарковского, что старики однажды, когда он приехал в Дагестан поработать над кавказскими переводами, поднесли ему на белом руне серебряную саблю – саблю его деда. И хотя сам Арсений Тарковский по самоопределению считал себя русским (конечно, русская кровь превалировала в нём) и, главное, – русским поэтом, эти древнедагестанские, «царские» ноты постоянно врывались в его стихи:
«…кожу мне холодила рогожная царская риза»…»
«…коса, коса и царь, я нищ наполовину,
От самого себя ещё не отделён…»
И многое другое в этом роде отыщется, если внимательно под таким углом перечесть весь стихотворный свод Тарковского.
Мы начали переписываться давно, когда я ещё жил в Алма-Ате, учился некоторое время на филфаке КАЗГУ (Казахский Государственный Университет) и проводили там, после занятий, поэтические факультативы под названием «Поэтическая Пятница». Их вела поэтесса и учёный Тамара Михайловна Мадзигон, Царствие ей Небесное. Она написала и – защитила! – в шестидесятые годы первую в стране диссертацию о творчестве Павла Васильева. Что казалось тогда почти невероятным.
«Пятницы» становились всё более и более знамениты, к нам нередко валили «бродячие» поэты со всего города, со своими подругами, как водится.
Время – конец 60-х, начало 70-х. было такое – ярко весеннее, полное сумасбродств и великих надежд. Девушки боготворили поэтов, и статус быть подругой Поэта, а ещё лучше очередной его любовницей было в чести. Похвастаться перед подругами этаким статусом – высший шик! Вот уж впрямь: «Я вспомнил время золотое…»
Одно из заседаний (поэтических сборищ) мы решили посвятить творчеству Арсения Тарковского. Списались с ним, задали некоторые вопросы. Он немедля ответил, подробно расшифровал некоторые «тёмные места», которые, наверно, есть у каждого большого поэта. Меня, например, интересовало – что такое река Сугаклея из одного раннего, но очень полюбившегося стихотворения Тарковского:
«Река Сугаклея уходит в камыш,