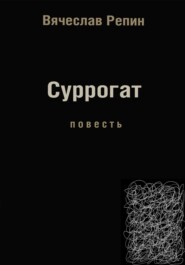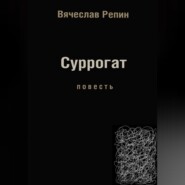По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Хам и хамелеоны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хам и хамелеоны
Вячеслав Борисович Репин
«Хам и хамелеоны» (2010) – незаурядный полифонический текст, роман-фреска с несколькими сюжетными линиями. Не любой читатель примет книгу с первых страниц. Затрагиваемые темы слишком полемичны. Автор слишком смело отдаляется от торных путей современной русской литературы…
Россия последних лет, Втора чеченская война, совершенно реальные боевые действия, боль сострадания, цинизм современности, многомерная повседневность жизни, метафизическое столкновение личности с обществом… – нет тематики более противоречивой.
«Кто виноват?» Старый в России вопрос вновь отсылает к древним истинам Бытия: сын, надсмеявшийся над отцом? неразумный отец, слепой к страданиями своих сыновей?.. Кто раб? Кто царь? Кто раб рабов?..
Именно на главные вопросы своего «бытия» читателю предстоит искать ответы на страницах этого вновь необъятного повествования писателя, вернувшегося на родину пока только в своей прозе.
Вячеслав Репин
Хам и хамелеоны
Часть первая
Крайняя плоть
"Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка. И ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка, и говорит, цель пчелы состоит во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль к приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливанья молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели."
Л. Н. Толстой, «Война и мир»
Взрослых детей Лопухов не мог собрать под родным кровом даже с кончиной их матери. Екатерину Ивановну хоронили в конце октября, в канун ее так и не отмеченного дня рождения. Воцерковленная соседка две ночи подряд читала Псалтирь. Отпевали прямо в квартире. Обошлось без столпотворения. Присутствовали знакомые, соседи и пара коллег по работе. Из родственников к овдовевшему Андрею Васильевичу в Тулу успела приехать только сестра покойной, престарелая вдова, жившая в Сибири.
Никто из детей так и не появился. Ни младший сын, живший в Англии, ни старший из Москвы не дали о себе знать. Телеграммы как в лету канули. Дочка же, переехав на новую съемную квартиру, не удосужилась поделиться новым адресом, номер телефона тоже, оказалось, сменила. Сообщить ей случившемся было попросту некуда, Андрей Васильевич не знал, кому писать, кому звонить…
На местном кладбище стоял запах огорода и сухостоя. Рядом во дворах жгли листву. Из-за ограды тянуло горьковатым дымом. Перед могилой неуверенно перетаптывалось человек пятнадцать. Отец Петр, местный батюшка, мерно размахивал кадилом. Отслужить литию ему помогали и здесь двое певчих. Сестра покойной, Дарья Ивановна, тихо переговаривалась с теми, кто держался от могилы подальше. Из-за наваленного по краям рыжего грунта свежевырытая яма чем-то напоминала рану, обработанную йодом.
Пожилого вдовца трудно было узнать. В прошлом военный, в запас уволившийся полковником, человек обычно собранный и подтянутый, Лопухов сдал за считаные дни. Словно тень застыв за спиной у отца Петра, он выглядел сутулым стариком, да и подавлен был, казалось, не горем, а больше сомнениями и недоумением. О чем мог скорбеть весь этот люд? За всё это время никто не поступился ни одной своей привычкой, как ни в чем не бывало все продолжали жить своей жизнью, пока он в одиночку боролся за жизнь жены, в одиночку выбивался из сил и до дна испил чашу отмеренного человеку горя? Так ему сегодня казалось. Держался Лопухов с достоинством, с таким видом, будто решил покончить с обидами, поставить на них крест. Но даже в сдержанности вдовца чувствовалось упрямое неприятие: человека нет, а вы всё те же…
Рабочие прибили крышку обыкновенными гвоздями. Гроб был опущен в могилу. В считаные минуты на месте ямы вырос рыхлый холмик свежей земли…
Поминки были устроены в городском кафе. Сверх меры щедрый обед, обязательные по случаю, бессвязные и медлительные речи, воспоминания и разговоры о покойной… – всё закончилось в три часа дня. Дарья Ивановна осталась после всех, чтобы рассчитаться за обслуживание. Подвыпившего Андрея Васильевича хотели проводить домой, но он наотрез отказался от сопровождения, домой он отправился пешком одному ему известной дорогой.
Дома Лопухов не находил себе места. Борясь с охмелением, он вышел в сад и начал было собирать под яблонями падалицу, но вскоре, оставив не наполненное и до половины ведро в беседке, пошел разбирать садовый инструмент: грабли, лопаты, мотыги. А стоило вернуться в дом, как вновь потянуло на свежий воздух.
Андрей Васильевич заставил себя сесть в кресло. То самое, в котором жена любила дремать после обеда. Он смотрел в окно на безлюдную улицу. Душу всё так же разъедала горечь: Екатерины Ивановны, Катюши… ее больше никогда не будет рядом. Это казалось невообразимым. И дети-то, дети, чада любимые… – тоже молодцы, отмочили номер! На похороны матери ни один не пожаловал! Как такое могло случиться? Как угораздило их с женой растерять своих чад?
Младший сын, Иван, жил в Англии. За границу Иван подался из-за перестроечных мытарств в надежде на лучшую жизнь. Там продолжал писательствовать. Там и женился. Да не просто на англичанке – на аристократке. По сей день в это как-то не очень верилось. Прадеды и деды землю пахали, и вдруг – высший свет! Чему же теперь удивляться? Жизнь у молодых не заладилась: слишком разными оказались сын пахарей и потомственная дворянка. Вот и вся история. После развода сын бедствовал. Писательство не обеспечивало хлебом насущным даже в Англии.
Андрей Васильевич много раз пытался Ивану дозвониться, но в Лондоне включался автоответчик, Ваниным голосом аппарат выдавал непонятную тарабарщину. Язык чужой страны, – как непривычно было отставному офицеру слышать его из уст собственного сына. Телеграмма, отправленная с главпочтамта, скорее всего, не дошла до адресата: ведь если бы Иван получил ее, то давно был бы дома в Туле.
В разъездах оказался и старший сын, Николай. Тот, в отличие от Вани, стал человеком обеспеченным, жил в Москве. Референт, отвечавший в офисе по прямой линии сына, сообщил, что «Николай Андреич» срочно улетел в «Штаты», а мобильный телефон «николай-андреича», дескать, перестал принимать звонки еще при посадке на рейс, и теперь какое-то время «шеф» будет недоступен, в самолетах мобильная связь пока только вводится. Лопухов долго не мог прийти в себя от этого тона: как же так, когда ни позвонишь, всё время приходится общаться с чужими людьми, просить, чтобы «шефу» передали: мол, отец беспокоил.
Может, просил плохо, а может, передавать забывали. Кто на этот раз забыл? Подхалимы-сотрудники? Прислуга? Вся эта челядь, которая окружала Николая, словно барина, дома и на работе? Ишь, разъелся!.. Известить о смерти Екатерины Ивановны смогли только невестку. Но звонка Андрей Васильевич не дождался и от нее.
Последнее чадо, самое родное и из троих детей самое непутевое – дочка Маша, – тоже подалось в Москву. Проучилась там пару лет, а затем у нее всё покатилось по наклонной: институт бросила, с квартиры съехала, скиталась неизвестно где… Неужели так можно жить годами? Без семьи, без дома, в разъездах по заграницам, без руля и ветрил?.. Прежде дочь хотя бы позванивала. Когда из Лондона, когда из Нью-Йорка, а минувшей весной, вернувшись в Москву насовсем, навестить мать в больнице удосужилась всего один раз, после чего пропала: ни слуху ни духу. Позднее выяснилось, что Маша снова переехала. Но почему-то не потрудилась сообщить ни телефона, ни адреса. Откуда у детей такое отношение к близким? Лопухов знал одно: дочь нужно разыскать во что бы то ни стало.
Но Андрей Васильевич даже не знал, с чего начать поиски. Опять взывать к совести братьев? В который уж раз винить обоих в безразличии к судьбе родной сестры? Трясти столичных друзей дочери? Не вы ли, мол, в своей Москве втянули девчонку в омут?
Но сколько можно обвинять других в собственной безмозглости?..
Бывают такие сны, сны с подтекстом, которые так и хочется прокручивать в голове еще и еще раз, потому что остаются пробелы, а из-за них, пробелов, не оставляет гложущее чувство самообмана, какой-то роковой ошибки, причем допущенной не во сне, а в реальной жизни. Именно таким сном – запутанным, сумбурным, но в чем-то всё же поучительным – Андрею Васильевичу виделась прожитая жизнь. И вот вопрос: чему он, в конце концов, научился?.. Двум-трем вещам. Пожалуй, главным. Но оказывается, и этого мало… Всё проходит как-то впустую. Вот она, единственная, по-настоящему стоящая чего-то правда жизни. Пробелы – это и есть та самая пустота, проекция пустоты на реальную жизнь человеческую. Но разве не в пробелах селится зло? Рассадник зла – пустота, пустота… Как жить дальше? Ради чего? Что там – впереди? Старость? Прозябание? Жизнь наедине с самим собой? Наедине с адским брожением в голове? Что хорошего в этих мыслях?.. Мыслям нужен простор, как человеку нужны воздух, ширь, ясное небо, горизонт. Но даже этого теперь нет. Потому что отныне он – один и живет, как в клетке, забытый и отрезанный от мира… И так живут все старики. И никому до них нет дела. Просто не у многих достает мужества называть вещи своими именами. В таком случае не проще ли теперь жене? Если там, куда она попала, существует что-то вообще. Но не может же она не быть совсем нигде…
Андрей Васильевич не помнил, как ноги донесли его до дивана. Не помнил, на чем закончились его размышления и с чего начался настоящий сон. Снилась жена, и была она в этом сне еще совсем молодой, и звали ее другим именем. Работала она прачкой. Одетая во всё белое, тихая, кроткая и бледнолицая – эта бледность сильно бросалась в глаза из-за ярко накрашенных губ, – жена-прачка, похоже, обстирывала компанию молодых военных. Мужчины с гоготом сбрасывали с себя грязную форму и нижнее белье и тоже одевались во всё белое, накрахмаленное. Все как на подбор атлеты – рядом с такими обычный человек выглядел бы заморышем, – они не стеснялись своей наготы, присутствие молодой женщины их нисколько не сковывало.
Лопухов же, тот, кому всё это снилось, прячась от глаз подальше, и сам не знал, почему с таким упорством наблюдает за переодеванием. Он ощущал стоящий в помещении привычный армейский запах – немытых мужских тел, и вдруг понимал, что с этим запахом он прожил всю жизнь. В этом было что-то примиряющее с действительностью. И в то же время покоя не давала мысль: что будет, если его обнаружат? Кто он? Как сюда попал? Объяснять всей этой компании, что он муж прачки? Друг ее сердечный?
Взгляд впивался в каждую черточку, в каждый штрих родного, еще совсем юного лица. В этом лице удивляло всё: и выражение терпимости к происходящему вокруг, и какая-то необычная кротость, а особенно то редкое сочетание робости и неосознаваемого бесстыдства, какое бывает у девочек-школьниц переходного возраста: с детством вроде бы покончено и пора уже уметь владеть своей мимикой, но не так-то это просто на деле…
Он не переставал поражаться соединению в ее облике знакомого и близкого, родного до такой степени, что сжималось сердце, с чем-то чужим и недоступным. Сумбур царил в душе еще и от присутствия мужчин…
И вдруг – прозрение! В прачечной галдел не просто какой-то военный люд. Это были его родные сыновья! Взрослые люди, все они давным-давно покинули отчий дом и вот теперь наконец вернулись! Всё оказалось так просто! Но на внешности и даже поведении сыновей лежал отпечаток незнакомого мира. И если бы Андрей Васильевич был бы сейчас в состоянии сказать себе правду, то признал бы, что сыновья кажутся ему совершенно чужими людьми. Чужими – только и всего. Он же, их одряхлевший папаша, в эту минуту был готов на всё. Вплоть до смирения со своим отцовским сиротством. Странное чувство, немного зеркальное. Не обидное, но пресное…
Тут вдруг и случилось то, чего он боялся больше всего. Его заметили. Кто-то из «сыновей» обернулся и заорал во весь голос, показывая на него пальцем: «Смотрите! А король-то голый!»
Весь ужас был в том, что на Андрее Васильевиче в данный момент действительно ничего не было: вот уж, действительно, гол как кол, и прикрыться нечем…
Проснуться, остановить сон – был единственный выход. Но и этого сделать не удалось. Он поймал на себе взгляд жены-прачки. Глаза ее были полны не по возрасту женского сочувствия и какой-то непонятной мольбы. В ту же секунду Андрей Васильевич осознал, что ради этого взгляда он готов пойти на всё. Не пугала даже пустота – этот бездонный источник страхов… Никто и никогда не понимал его так глубоко, так полно, до самого последнего закоулка его души, как эта девушка-жена в обличье прачки. Странное чувство… Но вдруг он ощутил и кое-что еще. Плотскую страсть – обжигающую, нестерпимую, безудержную. Похоть пронизывала его, старика, с такой силой, что он готов был расплакаться на виду у всех.
Он любил жену всем своим существом, каждой жилкой, любил так, как никогда и никого не смог бы полюбить на этом свете. Однако сейчас, во сне, этот неуместный прилив вожделения по-настоящему ужасал его…
– Ты же простудишься! Ну что с тобой делать? Опять улегся на сквозняке… – раздался ворчливый голос из ниоткуда. – И хоть бы укрылся… надо же, безобразие!
Кому это говорили? Ему? Но чем прикрыться? Накрахмаленной белоснежной простыней, которую протягивала ему юная жена? Нет, собственное тело казалось нечистым для такой милости, слишком грешным…
Знакомая пожилая женщина, склонившись над ним, с беспокойством всматривалась в его лицо. Андрей Васильевич понимал, что давно и хорошо знает эту женщину. Он даже вроде бы узнавал свой дом и комнату, но не мог понять, что он здесь делает. Да, ведь отсюда утром выносили гроб!
И разом рухнули все надежды. А душу вновь заволокла беспросветная тоска.
– Иван позвонил! Будет утром. А ты уж чего только не навыдумывал… – вздохнув, попрекнула его Дарья Ивановна.
Андрей Васильевич сел на постели и, спустив ноги, пригладил пальцами седую копну волос. Привычный мир вернулся, и снова всё пришло в движение: с кухни доносился милый слуху звон посуды, по радио звучало что-то дребезжащее и до боли знакомое; за окном дрожало сиреневое марево сумерек; о стекло билась и никак не могла попасть в квадрат открытой форточки крупная муха…
Вид вечереющей Тулы за окном, нагромождение горбатых силуэтов зданий, привычная какофония уличных звуков, долетавшая будто из невидимой оркестровой ямы, где настраивались в этот момент не самые мелодичные инструменты, – всё было как вчера и позавчера, как и годы назад. Но в то же время родная улица, очертания домов и даже горький осенний воздух – всё уже стало другим. В мире Лопухова появилось нечто ускользающее от его понимания, безликое, чуждое…
Лопухов-младший вытащил из багажника такси чемодан и неловко пристроил его на пыльной обочине. На крыльце показался отец. Ослепленный предзакатным солнцем, Андрей Васильевич, щурясь, вглядывался из-под ладони в подъехавшую к дому машину и не двигался с места.
Иван, было, ринулся навстречу отцу, но вдруг остановился в двух шагах от него. Андрей Васильевич словно очнулся… Переменившись в лице, старик неуклюже шагнул с крыльца и, едва сдерживая подступивший к горлу ком, обхватил сына за плечи. Не размыкая объятий, они с минуту стояли посреди двора. Из дома тихо вышла заплаканная Дарья Ивановна.
– Тетя Даша! Вы? – виновато отстранившись от отца, Иван кинулся к тетке.
– Ну, с приездом, эмигрант! Наконец-то! – пролепетала она. – А мы уж не знали, что и думать. Отец, он ведь… Ах, да что теперь!..
Андрей Васильевич взялся за ручку тяжеленного чемодана и, с усилием оторвав его от земли, поволок к крыльцу, не внимая уговорам сына и свояченицы воспользоваться имеющимися колесиками…
Старший сын появился в Туле вечером. О приезде предупредил из поезда. Погода под вечер испортилась. Шел ливень. Из остановившегося у дома Лопуховых очередного такси под струи воды выбрались Николай и его двенадцатилетняя дочь Феврония, белокурая девочка в летнем платьице и кофте.
Вне себя от радости, Андрей Васильевич заключил внучку в объятия, гладил по волосам. Девочка, морщась, старалась увернуть лицо от седой и колючей щетины на впалых щеках деда. Их даже пришлось разнимать. Еще раз прослезившись, но уже не с горя, а от радости, Андрей Васильевич еще долго не мог взять себя в руки… Никому и в голову не пришло поинтересоваться у Николая, как он умудрился привезти в Тулу дочь, ведь девочка жила в Петербурге, училась в балетной академии и на занятия пошла, как и все, первого сентября.
Вячеслав Борисович Репин
«Хам и хамелеоны» (2010) – незаурядный полифонический текст, роман-фреска с несколькими сюжетными линиями. Не любой читатель примет книгу с первых страниц. Затрагиваемые темы слишком полемичны. Автор слишком смело отдаляется от торных путей современной русской литературы…
Россия последних лет, Втора чеченская война, совершенно реальные боевые действия, боль сострадания, цинизм современности, многомерная повседневность жизни, метафизическое столкновение личности с обществом… – нет тематики более противоречивой.
«Кто виноват?» Старый в России вопрос вновь отсылает к древним истинам Бытия: сын, надсмеявшийся над отцом? неразумный отец, слепой к страданиями своих сыновей?.. Кто раб? Кто царь? Кто раб рабов?..
Именно на главные вопросы своего «бытия» читателю предстоит искать ответы на страницах этого вновь необъятного повествования писателя, вернувшегося на родину пока только в своей прозе.
Вячеслав Репин
Хам и хамелеоны
Часть первая
Крайняя плоть
"Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка. И ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка, и говорит, цель пчелы состоит во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль к приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливанья молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели."
Л. Н. Толстой, «Война и мир»
Взрослых детей Лопухов не мог собрать под родным кровом даже с кончиной их матери. Екатерину Ивановну хоронили в конце октября, в канун ее так и не отмеченного дня рождения. Воцерковленная соседка две ночи подряд читала Псалтирь. Отпевали прямо в квартире. Обошлось без столпотворения. Присутствовали знакомые, соседи и пара коллег по работе. Из родственников к овдовевшему Андрею Васильевичу в Тулу успела приехать только сестра покойной, престарелая вдова, жившая в Сибири.
Никто из детей так и не появился. Ни младший сын, живший в Англии, ни старший из Москвы не дали о себе знать. Телеграммы как в лету канули. Дочка же, переехав на новую съемную квартиру, не удосужилась поделиться новым адресом, номер телефона тоже, оказалось, сменила. Сообщить ей случившемся было попросту некуда, Андрей Васильевич не знал, кому писать, кому звонить…
На местном кладбище стоял запах огорода и сухостоя. Рядом во дворах жгли листву. Из-за ограды тянуло горьковатым дымом. Перед могилой неуверенно перетаптывалось человек пятнадцать. Отец Петр, местный батюшка, мерно размахивал кадилом. Отслужить литию ему помогали и здесь двое певчих. Сестра покойной, Дарья Ивановна, тихо переговаривалась с теми, кто держался от могилы подальше. Из-за наваленного по краям рыжего грунта свежевырытая яма чем-то напоминала рану, обработанную йодом.
Пожилого вдовца трудно было узнать. В прошлом военный, в запас уволившийся полковником, человек обычно собранный и подтянутый, Лопухов сдал за считаные дни. Словно тень застыв за спиной у отца Петра, он выглядел сутулым стариком, да и подавлен был, казалось, не горем, а больше сомнениями и недоумением. О чем мог скорбеть весь этот люд? За всё это время никто не поступился ни одной своей привычкой, как ни в чем не бывало все продолжали жить своей жизнью, пока он в одиночку боролся за жизнь жены, в одиночку выбивался из сил и до дна испил чашу отмеренного человеку горя? Так ему сегодня казалось. Держался Лопухов с достоинством, с таким видом, будто решил покончить с обидами, поставить на них крест. Но даже в сдержанности вдовца чувствовалось упрямое неприятие: человека нет, а вы всё те же…
Рабочие прибили крышку обыкновенными гвоздями. Гроб был опущен в могилу. В считаные минуты на месте ямы вырос рыхлый холмик свежей земли…
Поминки были устроены в городском кафе. Сверх меры щедрый обед, обязательные по случаю, бессвязные и медлительные речи, воспоминания и разговоры о покойной… – всё закончилось в три часа дня. Дарья Ивановна осталась после всех, чтобы рассчитаться за обслуживание. Подвыпившего Андрея Васильевича хотели проводить домой, но он наотрез отказался от сопровождения, домой он отправился пешком одному ему известной дорогой.
Дома Лопухов не находил себе места. Борясь с охмелением, он вышел в сад и начал было собирать под яблонями падалицу, но вскоре, оставив не наполненное и до половины ведро в беседке, пошел разбирать садовый инструмент: грабли, лопаты, мотыги. А стоило вернуться в дом, как вновь потянуло на свежий воздух.
Андрей Васильевич заставил себя сесть в кресло. То самое, в котором жена любила дремать после обеда. Он смотрел в окно на безлюдную улицу. Душу всё так же разъедала горечь: Екатерины Ивановны, Катюши… ее больше никогда не будет рядом. Это казалось невообразимым. И дети-то, дети, чада любимые… – тоже молодцы, отмочили номер! На похороны матери ни один не пожаловал! Как такое могло случиться? Как угораздило их с женой растерять своих чад?
Младший сын, Иван, жил в Англии. За границу Иван подался из-за перестроечных мытарств в надежде на лучшую жизнь. Там продолжал писательствовать. Там и женился. Да не просто на англичанке – на аристократке. По сей день в это как-то не очень верилось. Прадеды и деды землю пахали, и вдруг – высший свет! Чему же теперь удивляться? Жизнь у молодых не заладилась: слишком разными оказались сын пахарей и потомственная дворянка. Вот и вся история. После развода сын бедствовал. Писательство не обеспечивало хлебом насущным даже в Англии.
Андрей Васильевич много раз пытался Ивану дозвониться, но в Лондоне включался автоответчик, Ваниным голосом аппарат выдавал непонятную тарабарщину. Язык чужой страны, – как непривычно было отставному офицеру слышать его из уст собственного сына. Телеграмма, отправленная с главпочтамта, скорее всего, не дошла до адресата: ведь если бы Иван получил ее, то давно был бы дома в Туле.
В разъездах оказался и старший сын, Николай. Тот, в отличие от Вани, стал человеком обеспеченным, жил в Москве. Референт, отвечавший в офисе по прямой линии сына, сообщил, что «Николай Андреич» срочно улетел в «Штаты», а мобильный телефон «николай-андреича», дескать, перестал принимать звонки еще при посадке на рейс, и теперь какое-то время «шеф» будет недоступен, в самолетах мобильная связь пока только вводится. Лопухов долго не мог прийти в себя от этого тона: как же так, когда ни позвонишь, всё время приходится общаться с чужими людьми, просить, чтобы «шефу» передали: мол, отец беспокоил.
Может, просил плохо, а может, передавать забывали. Кто на этот раз забыл? Подхалимы-сотрудники? Прислуга? Вся эта челядь, которая окружала Николая, словно барина, дома и на работе? Ишь, разъелся!.. Известить о смерти Екатерины Ивановны смогли только невестку. Но звонка Андрей Васильевич не дождался и от нее.
Последнее чадо, самое родное и из троих детей самое непутевое – дочка Маша, – тоже подалось в Москву. Проучилась там пару лет, а затем у нее всё покатилось по наклонной: институт бросила, с квартиры съехала, скиталась неизвестно где… Неужели так можно жить годами? Без семьи, без дома, в разъездах по заграницам, без руля и ветрил?.. Прежде дочь хотя бы позванивала. Когда из Лондона, когда из Нью-Йорка, а минувшей весной, вернувшись в Москву насовсем, навестить мать в больнице удосужилась всего один раз, после чего пропала: ни слуху ни духу. Позднее выяснилось, что Маша снова переехала. Но почему-то не потрудилась сообщить ни телефона, ни адреса. Откуда у детей такое отношение к близким? Лопухов знал одно: дочь нужно разыскать во что бы то ни стало.
Но Андрей Васильевич даже не знал, с чего начать поиски. Опять взывать к совести братьев? В который уж раз винить обоих в безразличии к судьбе родной сестры? Трясти столичных друзей дочери? Не вы ли, мол, в своей Москве втянули девчонку в омут?
Но сколько можно обвинять других в собственной безмозглости?..
Бывают такие сны, сны с подтекстом, которые так и хочется прокручивать в голове еще и еще раз, потому что остаются пробелы, а из-за них, пробелов, не оставляет гложущее чувство самообмана, какой-то роковой ошибки, причем допущенной не во сне, а в реальной жизни. Именно таким сном – запутанным, сумбурным, но в чем-то всё же поучительным – Андрею Васильевичу виделась прожитая жизнь. И вот вопрос: чему он, в конце концов, научился?.. Двум-трем вещам. Пожалуй, главным. Но оказывается, и этого мало… Всё проходит как-то впустую. Вот она, единственная, по-настоящему стоящая чего-то правда жизни. Пробелы – это и есть та самая пустота, проекция пустоты на реальную жизнь человеческую. Но разве не в пробелах селится зло? Рассадник зла – пустота, пустота… Как жить дальше? Ради чего? Что там – впереди? Старость? Прозябание? Жизнь наедине с самим собой? Наедине с адским брожением в голове? Что хорошего в этих мыслях?.. Мыслям нужен простор, как человеку нужны воздух, ширь, ясное небо, горизонт. Но даже этого теперь нет. Потому что отныне он – один и живет, как в клетке, забытый и отрезанный от мира… И так живут все старики. И никому до них нет дела. Просто не у многих достает мужества называть вещи своими именами. В таком случае не проще ли теперь жене? Если там, куда она попала, существует что-то вообще. Но не может же она не быть совсем нигде…
Андрей Васильевич не помнил, как ноги донесли его до дивана. Не помнил, на чем закончились его размышления и с чего начался настоящий сон. Снилась жена, и была она в этом сне еще совсем молодой, и звали ее другим именем. Работала она прачкой. Одетая во всё белое, тихая, кроткая и бледнолицая – эта бледность сильно бросалась в глаза из-за ярко накрашенных губ, – жена-прачка, похоже, обстирывала компанию молодых военных. Мужчины с гоготом сбрасывали с себя грязную форму и нижнее белье и тоже одевались во всё белое, накрахмаленное. Все как на подбор атлеты – рядом с такими обычный человек выглядел бы заморышем, – они не стеснялись своей наготы, присутствие молодой женщины их нисколько не сковывало.
Лопухов же, тот, кому всё это снилось, прячась от глаз подальше, и сам не знал, почему с таким упорством наблюдает за переодеванием. Он ощущал стоящий в помещении привычный армейский запах – немытых мужских тел, и вдруг понимал, что с этим запахом он прожил всю жизнь. В этом было что-то примиряющее с действительностью. И в то же время покоя не давала мысль: что будет, если его обнаружат? Кто он? Как сюда попал? Объяснять всей этой компании, что он муж прачки? Друг ее сердечный?
Взгляд впивался в каждую черточку, в каждый штрих родного, еще совсем юного лица. В этом лице удивляло всё: и выражение терпимости к происходящему вокруг, и какая-то необычная кротость, а особенно то редкое сочетание робости и неосознаваемого бесстыдства, какое бывает у девочек-школьниц переходного возраста: с детством вроде бы покончено и пора уже уметь владеть своей мимикой, но не так-то это просто на деле…
Он не переставал поражаться соединению в ее облике знакомого и близкого, родного до такой степени, что сжималось сердце, с чем-то чужим и недоступным. Сумбур царил в душе еще и от присутствия мужчин…
И вдруг – прозрение! В прачечной галдел не просто какой-то военный люд. Это были его родные сыновья! Взрослые люди, все они давным-давно покинули отчий дом и вот теперь наконец вернулись! Всё оказалось так просто! Но на внешности и даже поведении сыновей лежал отпечаток незнакомого мира. И если бы Андрей Васильевич был бы сейчас в состоянии сказать себе правду, то признал бы, что сыновья кажутся ему совершенно чужими людьми. Чужими – только и всего. Он же, их одряхлевший папаша, в эту минуту был готов на всё. Вплоть до смирения со своим отцовским сиротством. Странное чувство, немного зеркальное. Не обидное, но пресное…
Тут вдруг и случилось то, чего он боялся больше всего. Его заметили. Кто-то из «сыновей» обернулся и заорал во весь голос, показывая на него пальцем: «Смотрите! А король-то голый!»
Весь ужас был в том, что на Андрее Васильевиче в данный момент действительно ничего не было: вот уж, действительно, гол как кол, и прикрыться нечем…
Проснуться, остановить сон – был единственный выход. Но и этого сделать не удалось. Он поймал на себе взгляд жены-прачки. Глаза ее были полны не по возрасту женского сочувствия и какой-то непонятной мольбы. В ту же секунду Андрей Васильевич осознал, что ради этого взгляда он готов пойти на всё. Не пугала даже пустота – этот бездонный источник страхов… Никто и никогда не понимал его так глубоко, так полно, до самого последнего закоулка его души, как эта девушка-жена в обличье прачки. Странное чувство… Но вдруг он ощутил и кое-что еще. Плотскую страсть – обжигающую, нестерпимую, безудержную. Похоть пронизывала его, старика, с такой силой, что он готов был расплакаться на виду у всех.
Он любил жену всем своим существом, каждой жилкой, любил так, как никогда и никого не смог бы полюбить на этом свете. Однако сейчас, во сне, этот неуместный прилив вожделения по-настоящему ужасал его…
– Ты же простудишься! Ну что с тобой делать? Опять улегся на сквозняке… – раздался ворчливый голос из ниоткуда. – И хоть бы укрылся… надо же, безобразие!
Кому это говорили? Ему? Но чем прикрыться? Накрахмаленной белоснежной простыней, которую протягивала ему юная жена? Нет, собственное тело казалось нечистым для такой милости, слишком грешным…
Знакомая пожилая женщина, склонившись над ним, с беспокойством всматривалась в его лицо. Андрей Васильевич понимал, что давно и хорошо знает эту женщину. Он даже вроде бы узнавал свой дом и комнату, но не мог понять, что он здесь делает. Да, ведь отсюда утром выносили гроб!
И разом рухнули все надежды. А душу вновь заволокла беспросветная тоска.
– Иван позвонил! Будет утром. А ты уж чего только не навыдумывал… – вздохнув, попрекнула его Дарья Ивановна.
Андрей Васильевич сел на постели и, спустив ноги, пригладил пальцами седую копну волос. Привычный мир вернулся, и снова всё пришло в движение: с кухни доносился милый слуху звон посуды, по радио звучало что-то дребезжащее и до боли знакомое; за окном дрожало сиреневое марево сумерек; о стекло билась и никак не могла попасть в квадрат открытой форточки крупная муха…
Вид вечереющей Тулы за окном, нагромождение горбатых силуэтов зданий, привычная какофония уличных звуков, долетавшая будто из невидимой оркестровой ямы, где настраивались в этот момент не самые мелодичные инструменты, – всё было как вчера и позавчера, как и годы назад. Но в то же время родная улица, очертания домов и даже горький осенний воздух – всё уже стало другим. В мире Лопухова появилось нечто ускользающее от его понимания, безликое, чуждое…
Лопухов-младший вытащил из багажника такси чемодан и неловко пристроил его на пыльной обочине. На крыльце показался отец. Ослепленный предзакатным солнцем, Андрей Васильевич, щурясь, вглядывался из-под ладони в подъехавшую к дому машину и не двигался с места.
Иван, было, ринулся навстречу отцу, но вдруг остановился в двух шагах от него. Андрей Васильевич словно очнулся… Переменившись в лице, старик неуклюже шагнул с крыльца и, едва сдерживая подступивший к горлу ком, обхватил сына за плечи. Не размыкая объятий, они с минуту стояли посреди двора. Из дома тихо вышла заплаканная Дарья Ивановна.
– Тетя Даша! Вы? – виновато отстранившись от отца, Иван кинулся к тетке.
– Ну, с приездом, эмигрант! Наконец-то! – пролепетала она. – А мы уж не знали, что и думать. Отец, он ведь… Ах, да что теперь!..
Андрей Васильевич взялся за ручку тяжеленного чемодана и, с усилием оторвав его от земли, поволок к крыльцу, не внимая уговорам сына и свояченицы воспользоваться имеющимися колесиками…
Старший сын появился в Туле вечером. О приезде предупредил из поезда. Погода под вечер испортилась. Шел ливень. Из остановившегося у дома Лопуховых очередного такси под струи воды выбрались Николай и его двенадцатилетняя дочь Феврония, белокурая девочка в летнем платьице и кофте.
Вне себя от радости, Андрей Васильевич заключил внучку в объятия, гладил по волосам. Девочка, морщась, старалась увернуть лицо от седой и колючей щетины на впалых щеках деда. Их даже пришлось разнимать. Еще раз прослезившись, но уже не с горя, а от радости, Андрей Васильевич еще долго не мог взять себя в руки… Никому и в голову не пришло поинтересоваться у Николая, как он умудрился привезти в Тулу дочь, ведь девочка жила в Петербурге, училась в балетной академии и на занятия пошла, как и все, первого сентября.