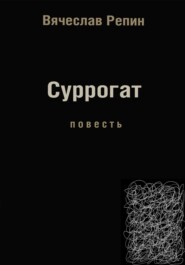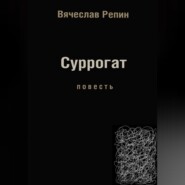По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ловец удовольствий и мастер оплошностей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гость мои усилия оценил. Маринованный вариант ягнятины с русской картошкой из Тамбова, в тонких ломтиках на пару, показался ему удачным. Один недостаток – с мяса не сцежен жир. Да и не хватало, на его взгляд, пучка душистого эстрагона.
Понимая конечно, что после обеда ему придется лечь поспать, на «дижестив», нарушая правила, я раскупорил бутылку виски, втридорога купленный на вечер «Талискер». А затем, вместе потоптав снежок вокруг коттеджа и заодно общими усилиями пополнив запас дров, которые я переносил частями из уличной поленницы в гостиную, чтобы досушивать березовые поленья в сухом помещении, мы сидели перед полыхавшей и гудевшей печкой. И так проговорили до самого вечера. Если бы я не поставил рядом с бутылкой полную вазу с кубиками льда, мы бы обязательно напились…
* * *
Скажи мне кто-нибудь вчера, что я буду общаться в Москве с одними французами, я бы просто не поверил. Жан-Поль позвал нас на ужин в среду. Японский ресторанчик на Кутузовском проспекте выглядел респектабельно. Француз-экспат жил с русской девушкой, молоденькой, лет двадцати пяти, довольно привлекательной внешности.
После недельного Ипёкшинского уединения один ее свежий вид казался мне заслуженной наградой. Но признаться себе в этом не хотелось. Я понимал, что должен сузить круг своих интересов до минимума, до главного. Ведь не для того я разгребал снег перед воротами, не для того сидел взаперти в чужом доме и прятался даже от родственников, чтобы вдруг почувствовать в себе интерес к общению, к чужим людям, проще которых, наверное, не бывает.
Жан-Поль называл подругу Наной. В действительности ее звали Наташей. Интимные нотки, вкрадывавшиеся в его голос при обращении к девушке, звучали трогательно. Мы с де Лёзом даже переглядывались, ведь на молодежном французском сленге слово nana означает нечто совсем определенное, что-то среднее между «барышня», «герла». Темноволосая, молчаливая, очень просто одетая – проштопанные джинсики, черная кофточка, – девушка взирала на нас, гостей бойфренда, с некоторой настороженностью. В ее глазах мы были, наверное, из другого теста.
Но еще более неожиданным оказался повод для встречи: Жан-Поль созвал нас всех справлять свой день рождения. Неужели больше не с кем? Ему стукнуло сорок два. На день рождения мы заявились с пустыми руками.
Де Лёз, несмотря на свои годы, всё еще неутомимый волокита, не переставал чесать языком с Наташей. По-английски он говорил, пожалуй, лучше, чем на родном французском. Москва ему всё больше нравилась, – это было написано у него на лице. Совершенно далекий от русской культуры, от местных нравов, а чувствует себя как рыба в воде, – позавидуешь. Для таких, как он, Москва была буржуазной страной, что, конечно, мало соответствовало действительности, но здесь можно было побарствовать – явление уже редкое для вчерашней мировой державы, потому что мир, как поучал всех де Лёз, окончательно «обдемократился». Он говорил не унимаясь, хвалил закуски, пил больше обычного и даже порывался закурить за столом скрученную папироску. Мне пришлось его удержать.
– Нан, ты объясни ему, не понимает ничего человек… У нас здесь другими категориями исчисляются вложения, – вмешался Жан-Поль в малопонятные для меня рассуждения Арно о странностях инвестиционной специфики Китая, где жил и процветал кто-то из его знакомых, очередной англосакс, которому не жилось у себя на родине. – Вложить сразу и выгрести дивиденды… А уж потом, если есть что выгребать, вкладывать по-настоящему. Рисковать здесь никто не хочет. Другое отношение к деньгам, к стоимости…
– Так это то что нужно, – вздохнул де Лёз.
– Смотря, в какой позиции ты сам находишься. Если ты вкладчик – ну да. А если должен работать с таким инвестором – ничего хорошего. Палка о двух концах…
Я не ожидал, что они начнут говорить о деньгах, о ссудном проценте, и, стараясь не отставать от них, немного перегибал, как и они, с виски. Мне еще предстояло вести машину до Ипёкшино, официант же, похожий на девушку-старшеклассницу, удалялся в который раз с пустыми стаканами, чтобы вернуться с новыми дозами виски.
В глазах молоденькой Наташи я улавливал в свой адрес какое-то особое расположение. Смеющимися зелеными глазами она словно спрашивала меня: а вы, неужели вы тоже болтун?
Вскоре официант стал носить на стол еду, не одни amuse-gueules[1 - Закуски (франц.).], как выражался Жан-Поль, а настоящие блюда. И я прослушал начало очередной темы, подброшенной в разговор де Лёзом.
– …В армии не бывает левых. В армии все лёпенисты[2 - Жан-Мари Лё Пен – известный правый политик Франции, основатель партии Французский Национальный Фронт. – Примеч. ред.]. На то она и армия. Обратное было бы странно. Представь себе такую армию, которая оккупирует Афганистан… или, скажем, Сомали… да устанавливает там социализм… Да еще и в нашем французском варианте. Пособия, бесплатная медицина…
– Да, конечно болтовня, – не спорил Жан-Поль. – Францию разваливаем мы сами. Здесь, в Москве, сколько таджиков работает. Да они давно уже на весь физический труд наложили монополию. И скоро добьются того же в сфере обслуживания. Ну и что? Не собираются же они в шароварах, в парандже ходить по улицам!
– Может, и не совсем сами разваливаем, – не до конца соглашался де Лёз.
Над столом опять повисло молчание. В этих вопросах с де Лёзом никто обычно не вступал в пререкания. Он был слишком хорошо осведомлен и слишком любил обсуждать эти темы.
Вокруг нас опять заюлил официант. Жан-Поль просил сменить какие-то блюда. Его подруга что-то отвергала, ей подали не то, что нужно, не то она просто ошиблась при заказе. И я опять пропустил часть дискуссии.
– …Это общеевропейское явление. Везде, во всем мире, сейчас поворот вправо. Франция – только пример, не больше. Это связано не только с тем, что мы видим воочию. Такие вещи – искусственное явление. Ответ нужно искать там, где… где и кому это выгодно.
– Ну и кому? – спросил Жан-Поль.
– Хозяевам денег, – ответил де Лёз и, взвесив значимость своих слов, добавил: – А вот механизм выкачивания средств из поворота вправо мне лично непонятен. Тебя виднее должно быть из твоей системы… Механизм наверняка запутанный, многослойный. Понятно только то, что левые идеи, тоже искусственные, привели к обогащению, к защите определенного класса. Среднего… Ему дали разжиреть, дали накопить побольше средств. А вот теперь плод созрел. Можно грабить средь бела дня… Но каким способом? В каком виде собраны накопления? Ну, в каком?
– Деньги, – закивал Жан-Поль. – Бумага…
– Не знаю… Наверное, не только. Но даже если так, то осталось включить печатный станок и печатать. Себе самому, сколько душе пожелается. И за бумагу скупать… ну, скажем, недвижимость…
– Еще проще заменить деньги на электронные, – солидарно поддержал финансист Жан-Поль.
– Вот именно… Но люди часто сами не понимают, кому они служат. Они не видят общей схемы. Ее вообще трудно разглядеть… Поэтому правые идеи всё под себя подомнут… А то, что фашизм здесь ни при чем – это тоже факт, – продолжал де Лёз объяснять нечто необычное для моих ушей. – Это везде одинаково происходит. Нужна страшилка. Чтобы всё внимание оттянуть на нее. Чтобы рядом выглядеть… ну, как самый мягкий вариант. Ведь сами-то они ни на что не способны. Ни те ни другие…
– Кто они, я не поняла? – виновато поинтересовалась скромница Наташа.
Де Лёз, улыбаясь ей сладкой, немного нездешней улыбкой, откинулся на спину стула, словно только теперь осознав, что внимает ему не один Жан-Поль. И ответил миморечью:
– Проблема в том, что всё меняется. Даже президенты. Из плохих становятся хорошими… Это реальность страны. Часть ее самоидентификации. Исконное население… Эти идеи людям близки. И как их не понять? Ведь им навязывают невероятные вещи. Прокатись по глубинке… да по Франции… посмотри, как живут простые люди. В какой бедности! И они не обижаются на свою бедность, на свою обделенность. Французы умеют жить скромно. Они обижены на то, что их хотят грабить средь бела дня и дальше, что отнимают уже не хлеб, не материальные блага, а фактически родину… Такого с ними нельзя делать. Они опять ринутся на Бастилию. Какая разница, кто там засел? Получится, как у арабов недавно[3 - Имеются в виду т. н. «цветные» волнения в арабских странах 2011-12 гг. – Примеч. ред.]… Ведь всё то же самое. Везде всё то же самое…
– Одна причина, что ли? И там, и здесь? – спросил Жан-Поль, будто чем-то расстроенный.
– Конечно, одна.
– Какая?
– Да, ладно, что это я вас.., – замялся де Лёз и опять стал улыбаться девушке.
Позднее, когда мы уже сели в машину, он принялся разъяснять мне ту самую «причину» – уже мне одному. Как же он любил поговорить.
Тема навевала на меня уныние. И вместе с тем немного ошпаривала сознание – от самого ощущения, что соприкасаться приходится с чем-то запретным, хотя вроде бы и стараешься всё это не трогать и не видеть. Я почему-то всегда испытывал похожее чувство, когда разговор заходил о французских «фехтовальщиках», – так называлась любимая тема де Лёза про «мастеров-строителей». И даже несмотря на то, что этой теме сегодня посвящались книги, и выходили они всегда в крупных издательствах, а в витринах газетных киосков красовались что ни день обложки периодических изданий с изображением и циркуля, и «лучезарной дельты», язык от этих разговоров всегда гипнотически тяжелел.
Мир будто бы опять лишился иммунитета. Цикл будто бы опять привел к пресыщению, к разрушению защитных реакций, к утрате иммунитета. «Простые люди», эти вечные горемыки, повсеместно обреченные на материальную зависимость и лишения, к которым Арно, вечный искатель злата, испытывал, как я понимал, сочувствие, – простые люди не могут этому противостоять. Слишком уж наивны, утверждал он. От горькой участи их может уберечь только дьявольская расчетливость. Но на нее уйдет вся их энергия. А это не позволит им ни кормить себя, ни рожать детей. Но поскольку именно такие люди и составляют поголовное большинство, то мир, видимо, просто создан для того, чтобы кто-то один сидел у всех на шее. Такова людская природа. Сообразно своей природе люди и обустраивают мир, в котором живут. На что же сетовать?
Отсюда и все беды. Верить в то, что цунами, эта адская угроза для всего «цивилизованного» мира, к которому мы, люди «простые» и «непростые», себя причисляем, вдруг почему-то вхолостую растратит свою разрушительную энергию, не достигнет берегов, – разве это не абсурдно?
Арно был пессимистом. И он умел со своим пессимизмом жить, умел оставаться собою. А вот меня это приводило к тяжелым раздумьям.
* * *
За день до приезда де Лёза главной моей целью было купить хорошее мясо, чтобы накормить его обедом, найти приличное вино и побольше хорошей питьевой воды, и при этом еще и «не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома…» Этот риск был вполне реальным от одних поездок на машине мимо дачных заборов. Безутешные мысли так и лезут в голову, когда сидишь за рулем в распутицу и проезжаешь через подмосковные деревни, сиротливые, безлюдные, почерневшие от сырости и времени.
Когда я писал свой первый роман, главным мне казалось издать его в том издательстве, книги которого, полное собрание сочинений Л. Толстого в ста с лишним томах, я увидел в книжном магазине на Тверской, да еще и получить такой гонорар, чтобы его хватило на оплату задолженностей по коммунальным платежам в Париже, накопившимся за съемную квартиру, тогда еще с адресом в семнадцатом округе.
Когда я женился, мне казалось важным остаться прежним, вчерашним, свободным. Не превратиться в животастого папашу, не превратить всё в рутину, в том числе и законные постельные утехи, говорил я себе, после которых иногда не хочется уже ничего. Мне казалось тогда важным не стать представителем «среднего» класса, сохранить неизменными отношения с прежними друзьями и подружками, количество которых убывало на глазах. Вместо них появлялись более обеспеченные, более именитые и более похожие на меня самого. И уже тогда появилась первая усталость от всего «среднего». Всё среднее быстро пресыщает, но остается чувство, что живешь впроголодь.
Позднее, когда впервые по-настоящему понимаешь, что невозможно испробовать всего, что жизнь требует избирательности, самоограничения, приходится на ходу менять местами приоритеты. И тогда ограниченность всего плотского, телесного уже не выглядит теорией, придуманной грешниками, которым посчастливилось вымолить себе прощение.
С сытостью теряешь стимулы. А без них останавливается всё. Два шага – и уже можно потеряться в себе самом. Человек, подобно некоторым элементарным частицам, существует только в движении. Главное в жизни не терпит завершенности…
Я уехал из Советского Союза летом восемьдесят пятого года. Французский консул, курировавший мой отъезд, вышел из кабинета вместе со мной, чтобы проводить меня до лестницы. Пожимая мне руку, он даже слегка обнял меня, прежде чем неловко добавить, что сыну его столько же лет, сколько и мне. А когда я спустился в нижний холл консульства на Якиманке, я услышал над головой робкие аплодисменты. Сотрудники, одни женщины, откуда-то узнавшие о моем визите, вышли из офисных каморок на внутренний круговой балкон, чтобы молчаливо выразить свою солидарность – не со мной лично, никто из них не был со мной знаком, а с самим фактом, что кому-то удалось добиться невозможного, вырваться из системы, из несвободы, – так я тогда считал. И в тот миг я подумал, что мне, видимо, действительно по-настоящему повезло. Тогда я еще не понимал, что это и есть гордыня.
Консул снабдил меня странной по тем временам визой. По прилете в Шарль-де-Голль visa d’еtablissement (на поселение) привела запаренного от духоты пограничника в такое недоумение, что он позвал на помощь коллег в штатском, в костюмах, которые без акцента говорили на языке этой книги.
Мой приезд во Францию пришелся на летние отпуска и попал в пику журналистского спроса. Любителям листать газету за утренним кофе скармливать в это время особенно нечего. И пару дней, пока обо мне не забыли, я видел свой лик – удивленно глазеющего на знойный Париж русского изгоя – в стеклянных витринах газетных киосков. Даже Пари-Матч умудрился выкупить фотографии у какого-то фрилансера, который позвонил Мишель, моей тогдашней половине, прямо в дверь и попросил дать ему возможность заработать. Его снимки, полупрофессиональные, были вскоре напечатаны в полные развороты – нелепые, каникульные, со слезливым амурным душком, которого никогда не было в наших с Мишель отношениях.
Стояла умопомрачительная жара. Жара длилась весь месяц и спала лишь к тому дню, когда мы с женой наконец поженились. Мы расписались уже в Париже. Вроде бы уже и незачем. Она уже вытащила меня из проруби моего советского прошлого. Брак был формальностью. Но так было правильнее. Почти автоматическое и скорое получение гражданства, без которого по Европе особенно не покатаешься, тоже становилось формальностью.
В те дни, как-то вечером, находясь в гостях у американского друга Мишель, художника, мы втроем курили и распивали у окна красное бургундское вино. И нас вдруг заинтриговало неожиданное людское скопление людей внизу на проезжей части. На тихой узкой улочке, пересекавшей один из кварталов Марэ, появилась безмолвная, медленно движущаяся процессия. В самой гуще толпы внимание привлекала лысина с темноватым пятном.
Я вдруг узнал Горбачева. Правда, сначала я не поверил своим глазам, хотя и знал по новостям, что он находится с визитом в Париже. На родине я видел генсека только по телевизору. Одно это давало почувствовать, что такое свобода – примитивная, буквальная, какая-то даже физическая, осязаемая на ощупь. Париж выравнивал всё, даже такой немыслимый разрыв в социальном статусе людей, которые никогда и ни в каком в другом месте не смогли бы физически оказаться на столь близком расстоянии друг от друга, не ближе, чем на длину километрового официального картежа с охраной…