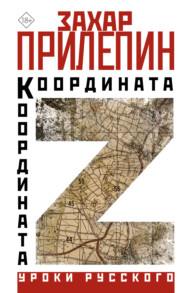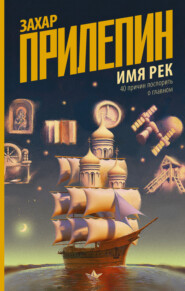По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Долматов! Боже мой, Долматов!
Конструктор боевых ракет,
Сказал он чужеземцам «нет»!
Погиб в руках у супостатов…
(«Долматов в старом Королёве…», 2016)
Но если б только в поэзии так забавно преломлялось его влияние.
Влияние Державина на Гоголя и Салтыкова-Щедрина – отдельные темы.
Зримо и незримо Державин оказывается востребован всякий раз, когда возникает вихревой хаос, – и тогда он обнаруживается в прозе так же полновластно, как и в поэзии: у таких, к примеру, разных сочинителей, как Андрей Платонов, Борис Пильняк, а то даже и Алексей Чапыгин. И, конечно же, в передовицах, очерках и романах Александра Проханова.
Убеждённость в неисчерпаемости бытия и нерасторжимый с этим чувством ужас назойливой смерти, клокотание и бурление жизни, слом языка, перенасыщенность метафорического ряда, ироническое отстранение при полном ангажированном личном растворении в теме, – это Державин.
Одно из наиважнейших достижений его в том, что он придал патриотизму звучание абсолютное.
Патриотизм мог тогда носить религиозный характер – приверженность вере православной, мог иерархический – приверженность русскому царю, мог родовой – любовь к отеческим могилам, мог – обрядовый, песенный, языковой… Державин сплёл всё это в единый венок: историю, государственничество, религиозность, верность престолу, верность культурным кодам, гражданское чувство, чувство моральное и чувство воина, росса-победителя.
(Само звучание фамилии его знаково: виднейший русский поэт действительно являл собой воплощённое державное чувство. Вдвойне забавно, что сражался он с бунтовщиком Пугачёвым. Судя по этим фамилиям, перед нами – нравоучительная пьеса эпохи классицизма, а не реальная историческая эпоха.)
Если называть вещи своими именами: Державин – певец экспансии.
Разнообразные его уроки были учтены почти всей русской поэзией, но в данном смысле стоит назвать как минимум три имени, берущие начало в державинских одах: конечно же, Пушкин, безусловно, «грубый» и «гиперболичный» революционно-военный Маяковский и, со всей очевидностью, Бродский – с одой Жукову; хотя точно не только с ней.
Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
В смерть уезжает пламенный Жуков.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском манёвра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.
Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.
Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Всё же прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.
(«На смерть Жукова», 1974)
Не высказанный напрямую, но безусловно осязаемый завет Бродского заключается в том, что, говоря о самых важных вещах – в числе которых было и весьма весомое в его поэтическом мире понятие «империя», – он не видел ни одной причины ссылаться на такие понятия, как «прогресс», и прочую ложную «моральность» новых времён. «На смерть Жукова» вопиет о другом: нет никакого смысла менять интонацию (и даже стихотворный размер), говоря о русских победах полтора века спустя после написания державинского «Снигиря»: вокруг нас – те же самые античные герои.
Победы и смерть героя, говорит Бродский, подлежат лишь Господнему суду; суетливому человеческому суду всё это не подсудно. Ибо кто тут вправе оспорить сказанное героем: «Я воевал». А то, что герой в аду, – так кто из вас уверен, что попадёт в рай? Судя по всему, там и ад особый, солдатский: сухой и выжженный, как отвоёванная степь.
Именно у «грубого» и «невежественного» Державина Бродский позаимствовал то, в чём его едва ли не чаще всего упрекают: высокий штиль, в которой там и сям вдруг врываются совершенно, казалось бы, неожиданные вульгаризмы.
Другой общеизвестный приём Бродского: пафос, вывернутый наизнанку (в том числе за счёт использования архаических форм). Взгляните, к примеру, вот Державин:
И се, как ночь осення, тёмна,
Нахмурясь надо мной челом,
Хлябь пламенем расселась чёрна,
Сверкнул, взревел, ударил гром;
И своды потряслися звездны:
Стократно отгласились бездны,
Гул восшумел, и дождь, и град,
Простёрся синий дым полётом,
Дуб вспыхнул, холм стал водомётом,
И капли радугой блестят.
(«Гром», 1806)
И тут же, не меняя интонации, продолжаем:
Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке – Солдат и Дура.
………………………………………….
Луна сверкает, зренье муча.
Под ней, как мозг отдельный, туча…
(«Набросок, 1972)
Сравните также постсоветские саркастические мотивы Бродского в описании бывшей Отчизны с державинским:
Печальная страна
Вокруг молчит,
Из облаков луна
Чуть-чуть глядит.
(«Персей и Андромеда», 1807)
А эти их, наконец, почти бесконечные сочинения на вольные темы – будь то державинские, в сотню строк, рассуждения о его собачке, или такой же бесконечный свиток, по которому ползает муха Бродского?
В целом мир Державина – населённый императорами и полководцами (и, что скрывать, девками), мир с громыхающими водопадами и холмами, и ещё с книжкой, скажем, Горация, в теньке на лавочке, – это и мир Бродского.
Конструктор боевых ракет,
Сказал он чужеземцам «нет»!
Погиб в руках у супостатов…
(«Долматов в старом Королёве…», 2016)
Но если б только в поэзии так забавно преломлялось его влияние.
Влияние Державина на Гоголя и Салтыкова-Щедрина – отдельные темы.
Зримо и незримо Державин оказывается востребован всякий раз, когда возникает вихревой хаос, – и тогда он обнаруживается в прозе так же полновластно, как и в поэзии: у таких, к примеру, разных сочинителей, как Андрей Платонов, Борис Пильняк, а то даже и Алексей Чапыгин. И, конечно же, в передовицах, очерках и романах Александра Проханова.
Убеждённость в неисчерпаемости бытия и нерасторжимый с этим чувством ужас назойливой смерти, клокотание и бурление жизни, слом языка, перенасыщенность метафорического ряда, ироническое отстранение при полном ангажированном личном растворении в теме, – это Державин.
Одно из наиважнейших достижений его в том, что он придал патриотизму звучание абсолютное.
Патриотизм мог тогда носить религиозный характер – приверженность вере православной, мог иерархический – приверженность русскому царю, мог родовой – любовь к отеческим могилам, мог – обрядовый, песенный, языковой… Державин сплёл всё это в единый венок: историю, государственничество, религиозность, верность престолу, верность культурным кодам, гражданское чувство, чувство моральное и чувство воина, росса-победителя.
(Само звучание фамилии его знаково: виднейший русский поэт действительно являл собой воплощённое державное чувство. Вдвойне забавно, что сражался он с бунтовщиком Пугачёвым. Судя по этим фамилиям, перед нами – нравоучительная пьеса эпохи классицизма, а не реальная историческая эпоха.)
Если называть вещи своими именами: Державин – певец экспансии.
Разнообразные его уроки были учтены почти всей русской поэзией, но в данном смысле стоит назвать как минимум три имени, берущие начало в державинских одах: конечно же, Пушкин, безусловно, «грубый» и «гиперболичный» революционно-военный Маяковский и, со всей очевидностью, Бродский – с одой Жукову; хотя точно не только с ней.
Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
В смерть уезжает пламенный Жуков.
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском манёвра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо, в опале,
как Велизарий или Помпей.
Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.
Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Всё же прими их – жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и, военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.
(«На смерть Жукова», 1974)
Не высказанный напрямую, но безусловно осязаемый завет Бродского заключается в том, что, говоря о самых важных вещах – в числе которых было и весьма весомое в его поэтическом мире понятие «империя», – он не видел ни одной причины ссылаться на такие понятия, как «прогресс», и прочую ложную «моральность» новых времён. «На смерть Жукова» вопиет о другом: нет никакого смысла менять интонацию (и даже стихотворный размер), говоря о русских победах полтора века спустя после написания державинского «Снигиря»: вокруг нас – те же самые античные герои.
Победы и смерть героя, говорит Бродский, подлежат лишь Господнему суду; суетливому человеческому суду всё это не подсудно. Ибо кто тут вправе оспорить сказанное героем: «Я воевал». А то, что герой в аду, – так кто из вас уверен, что попадёт в рай? Судя по всему, там и ад особый, солдатский: сухой и выжженный, как отвоёванная степь.
Именно у «грубого» и «невежественного» Державина Бродский позаимствовал то, в чём его едва ли не чаще всего упрекают: высокий штиль, в которой там и сям вдруг врываются совершенно, казалось бы, неожиданные вульгаризмы.
Другой общеизвестный приём Бродского: пафос, вывернутый наизнанку (в том числе за счёт использования архаических форм). Взгляните, к примеру, вот Державин:
И се, как ночь осення, тёмна,
Нахмурясь надо мной челом,
Хлябь пламенем расселась чёрна,
Сверкнул, взревел, ударил гром;
И своды потряслися звездны:
Стократно отгласились бездны,
Гул восшумел, и дождь, и град,
Простёрся синий дым полётом,
Дуб вспыхнул, холм стал водомётом,
И капли радугой блестят.
(«Гром», 1806)
И тут же, не меняя интонации, продолжаем:
Се вид Отечества, гравюра.
На лежаке – Солдат и Дура.
………………………………………….
Луна сверкает, зренье муча.
Под ней, как мозг отдельный, туча…
(«Набросок, 1972)
Сравните также постсоветские саркастические мотивы Бродского в описании бывшей Отчизны с державинским:
Печальная страна
Вокруг молчит,
Из облаков луна
Чуть-чуть глядит.
(«Персей и Андромеда», 1807)
А эти их, наконец, почти бесконечные сочинения на вольные темы – будь то державинские, в сотню строк, рассуждения о его собачке, или такой же бесконечный свиток, по которому ползает муха Бродского?
В целом мир Державина – населённый императорами и полководцами (и, что скрывать, девками), мир с громыхающими водопадами и холмами, и ещё с книжкой, скажем, Горация, в теньке на лавочке, – это и мир Бродского.