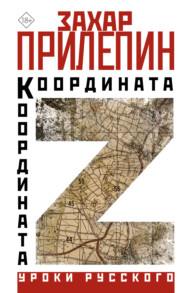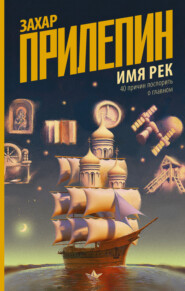По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Они полны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар.
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар!
Давыдов явился поэтическим предвестником Пушкина, прямо говоря, случайно: он не собирался быть поэтом. Отсюда его восхитительная поэтическая легкомысленность – свободная жестикуляция, воздух, остроумие: всё то, что будет столь характерно для пушкинского гения. Если б Давыдов изначально собрался писать всерьёз, для публикаций, ничего подобного у него б не получилось – но, напротив, имела бы место некоторая выспренность. Давыдов же позволил себе говорить собственным голосом, простейшими словами, сочинять, самому себе посмеиваясь, с похмелья или едва похмелившись, – и вышло на ура.
Как мы видим, в своей «ссылке» даже лёгкого подобия раскаяния Давыдов не испытал. Дальше войны всё равно не сошлют, понимал он, о войне мечтая как о романтической встрече.
Тут и война подоспела.
Наполеон уже хозяйничал в Европе, молодой российский император принял решение направить туда генерал-фельдмаршала Михаила Каменского с войском.
Давыдов пишет: «Как бешеный, я пустился в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку, идущему за границу».
К Каменскому Давыдов не попал, но его взяли адъютантом к Петру Ивановичу Багратиону, командующему авангардом армии.
К тому самому Багратиону, по поводу которого Давыдов в стихотворении «Сон» не так давно острил, что у него «нос вершком короче стал» – все знали о длинном, с горбинкой носе уже легендарного военачальника. Так что и Багратион оказался не обидчив; какие светлые люди жили тогда – то не заморачивались о пустяках, то из-за других, по нашим меркам, тоже пустяков, стрелялись на дуэлях.
По пути к месту службы, 15 января 1807 года, Давыдов произведён был в штаб-ротмистры.
Уже на месте встретил среди офицеров множество своих петербургских приятелей, которые, вспоминал Давыдов, «…вздыхали о петербургской роскошной жизни. “Глупый ты человек, – говорили мне они, – чёрт тебя сюда занёс! Как дорого бы мы дали, чтоб возвратиться назад! Ты ещё в чаду, мы это видим, – погоди немного, и мы услышим, что ты скажешь”. Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что я заранее знал, куда еду: туда, где дерутся, а не туда, где целуются, и уверен был и буду, что война не похлёбка на стерляжьем бульоне».
«Не могу описать, с каким восторгом, с каким упоением я глядел на всё, что мне в глаза бросалось! Части пехоты, конницы и артиллерии, готовые к движению, облегали ещё возвышения справа и слева – в одно время, как длинные полосы чёрных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук колёс пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами; самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопчённых дымом биваков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и плащами, – всё это благородное безобразие, знаменующее понесённые труды и опасности, всё неизъяснимо электризировало, возвышало мою душу! Наконец я попал в мою стихию!»
Военные свои записки Давыдов писал так, как ни один русский генерал позже не умел. Более того, все романы о Давыдове на фоне его собственных записок беспощадно блёкнут.
«Мы вступили, как я сказал, на равнину Морунгенской битвы…
Я из любопытства рассматривал поле сражения. Прежде ездил по нашей, а потом по неприятельской позиции. Видно было, где огонь и где натиски были сильнее – по количеству тел, лежавших на тех местах. Артиллерией авангарда нашего командовал тогда полковник Алексей Петрович Ермолов, и действие её было, во всём смысле слова, разрушительно в пехотных колоннах и линиях неприятельской конницы, ибо целые толпы первой и целые ряды последней лежали у деревни Пфаресфельдшен, поражённые ядрами и картечью, в том же порядке, как они шли или стояли во время битвы.
Вначале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искажённые и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особого впечатления; но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я – со стыдом признаюсь – дошёл до той степени беспокойства относительно самого себя или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения и безобразия. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, то я легко бы увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, ибо чем рана смертоноснее, тем страдание кратковременнее, – а какое дело до того, что после смерти будешь пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя! Слава богу, с рассветом дня воспоследовало умственное мое выздоровление. Пришед в первобытное состояние, я сам над собою смеялся и, как помнится, в течение долговременной моей службы никогда уже не впадал в подобный пароксизм больного воображения».
«Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи!» – пишет Давыдов.
Или, о том же, в отличных, написанных уже после навсегда пережитых пароксизмов воображения стихах:
…гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон – ив сечу!
Вот пир иной нам Бог даёт,
Пир задорней, удалее,
И шумней, и веселее…
Ну-тка, кивер набекрень,
И – ура! Счастливый день!
Едва появившись в месте боёв, Давыдов стал искать, где бы ему и поскорей совершить подвиг. Он вызвался в переднюю цепь, якобы чтоб смотреть за неприятелем. Там и приметил разодетого французского офицера, стоявшего наособицу и наблюдающего за русскими.
Неподалёку были казаки, и, подъехав к ним, Давыдов попытался подбить их взять офицера в плен. Казаки оказались опытными вояками, посему адъютанту мягко отказали: «Не к чему головы подставлять, вашебродь».
Тогда раздосадованный и одновременно праздничный Давыдов рванул сам к этому офицеру, возле которого уже собрались французские кавалеристы, подозревающие, что затевается нечто нехорошее.
На скаку Давыдов выстрелил в офицера из пистолета, но… не попал.
В Давыдова выстрелили в ответ, да не по разу, все французские кавалеристы, и тоже промахнулись; а вполне могло б получиться так, что рассказ наш здесь же и оборвался бы.
Сделав круг, Давыдов вернулся: не настолько близко, чтоб в него могли легко попасть, но достаточно для того, чтоб крикнуть – и быть услышанным.
На своём отличном французском Давыдов стал вызывать француза на личный поединок. Тот в ответ кричал что-то обидное. Давыдов обзываться тоже умел, и они начали друг друга витиевато поливать, причём наш герой иногда переходил на русский – тут выбор казался шире.
Наконец, один из казаков подъехал к Давыдову и ласково попросил:
– Ваше благородие, отражение – святое дело, ругаться в нём – всё то же, что в церкви: Бог накажет!
О, тихая мудрость русского человека.
Поняв, что тут порывов души его не понимают, Давыдов умчался обратно к Багратиону.
Исполнив очередное его поручение, но не успокоившись, вернулся на то же самое место, и на этот раз уговорил казаков атаковать французский авангард.
Казаки согласились, Давыдов выстроил их, гусар и улан, и пошёл в первый в своей жизни бой.
…Вот уже бешеные лица противников – выстрел, мимо, выстрел, мимо, – сабли наголо, бьют по нему, отразил с лязгом, ещё бьют, увернулся, – бьёт сам и видит даже не кровь чужую – а мясо…
Схватка продолжалась несколько минут, обратить в бегство французов не удалось; пришлось возвращаться к своим позициям.
Давыдов, и разгорячённый, и удручённый – как же, не получилось наскоком погнать противника, – помчался обратно к Багратиону и по пути попал навстречу французским конным егерям.
Захлопали выстрелы.
Лошадь Давыдова ранили, подоспевший француз ухитрился схватить Давыдова за гусарский плащ. Давыдов с необычайной ловкостью выпростался из плаща – и оставил его в руках француза, но лошадь его уже начала заваливаться…
Вот тебе и «ура, счастливый день».
…Если б не подоспевший казачий разъезд – лежал бы адъютант Багратиона с маленькой пулькой в молодом теле или с неприятным, от сабельного удара, расколом посреди задорной головы.
Давыдову дали коня из-под убитого гусара – и он был спасён.
За первое же своё дело Давыдов получил орден Святого Владимира 4-й степени. Наградные листы (рескрипты) подписывал сам император: как выяснилось, зла он на Давыдова не держал. Багратион одарил бесшабашного адъютанта собственной буркой взамен сорванного плаща.
Уже через день Давыдов участвует в сражении при Прейсиш-Эйлау.
Там он переживёт полтора дня артиллерийской бомбёжки: «…широкий ураган смерти, всё вдребезги ломавший и стиравший с лица земли всё, что не попадало под его сокрушительное дыхание…».
Французской армией в том сражении командовал сам непобедимый Бонапарт, к тому ж у французов было численное превосходство.
В чудовищном грохоте, меж разрывов и бессчётных смертей, Давыдова непрестанно гоняли к передовой с теми или иными приказами.
Арьергардные части, которые возглавляли Багратион и Барклай-де-Толли, должны были прикрывать отступление русской армии.
В них сокрыт небесный жар.
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар!
Давыдов явился поэтическим предвестником Пушкина, прямо говоря, случайно: он не собирался быть поэтом. Отсюда его восхитительная поэтическая легкомысленность – свободная жестикуляция, воздух, остроумие: всё то, что будет столь характерно для пушкинского гения. Если б Давыдов изначально собрался писать всерьёз, для публикаций, ничего подобного у него б не получилось – но, напротив, имела бы место некоторая выспренность. Давыдов же позволил себе говорить собственным голосом, простейшими словами, сочинять, самому себе посмеиваясь, с похмелья или едва похмелившись, – и вышло на ура.
Как мы видим, в своей «ссылке» даже лёгкого подобия раскаяния Давыдов не испытал. Дальше войны всё равно не сошлют, понимал он, о войне мечтая как о романтической встрече.
Тут и война подоспела.
Наполеон уже хозяйничал в Европе, молодой российский император принял решение направить туда генерал-фельдмаршала Михаила Каменского с войском.
Давыдов пишет: «Как бешеный, я пустился в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку, идущему за границу».
К Каменскому Давыдов не попал, но его взяли адъютантом к Петру Ивановичу Багратиону, командующему авангардом армии.
К тому самому Багратиону, по поводу которого Давыдов в стихотворении «Сон» не так давно острил, что у него «нос вершком короче стал» – все знали о длинном, с горбинкой носе уже легендарного военачальника. Так что и Багратион оказался не обидчив; какие светлые люди жили тогда – то не заморачивались о пустяках, то из-за других, по нашим меркам, тоже пустяков, стрелялись на дуэлях.
По пути к месту службы, 15 января 1807 года, Давыдов произведён был в штаб-ротмистры.
Уже на месте встретил среди офицеров множество своих петербургских приятелей, которые, вспоминал Давыдов, «…вздыхали о петербургской роскошной жизни. “Глупый ты человек, – говорили мне они, – чёрт тебя сюда занёс! Как дорого бы мы дали, чтоб возвратиться назад! Ты ещё в чаду, мы это видим, – погоди немного, и мы услышим, что ты скажешь”. Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что я заранее знал, куда еду: туда, где дерутся, а не туда, где целуются, и уверен был и буду, что война не похлёбка на стерляжьем бульоне».
«Не могу описать, с каким восторгом, с каким упоением я глядел на всё, что мне в глаза бросалось! Части пехоты, конницы и артиллерии, готовые к движению, облегали ещё возвышения справа и слева – в одно время, как длинные полосы чёрных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук колёс пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами; самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопчённых дымом биваков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и плащами, – всё это благородное безобразие, знаменующее понесённые труды и опасности, всё неизъяснимо электризировало, возвышало мою душу! Наконец я попал в мою стихию!»
Военные свои записки Давыдов писал так, как ни один русский генерал позже не умел. Более того, все романы о Давыдове на фоне его собственных записок беспощадно блёкнут.
«Мы вступили, как я сказал, на равнину Морунгенской битвы…
Я из любопытства рассматривал поле сражения. Прежде ездил по нашей, а потом по неприятельской позиции. Видно было, где огонь и где натиски были сильнее – по количеству тел, лежавших на тех местах. Артиллерией авангарда нашего командовал тогда полковник Алексей Петрович Ермолов, и действие её было, во всём смысле слова, разрушительно в пехотных колоннах и линиях неприятельской конницы, ибо целые толпы первой и целые ряды последней лежали у деревни Пфаресфельдшен, поражённые ядрами и картечью, в том же порядке, как они шли или стояли во время битвы.
Вначале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искажённые и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особого впечатления; но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я – со стыдом признаюсь – дошёл до той степени беспокойства относительно самого себя или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения и безобразия. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, то я легко бы увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, ибо чем рана смертоноснее, тем страдание кратковременнее, – а какое дело до того, что после смерти будешь пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя! Слава богу, с рассветом дня воспоследовало умственное мое выздоровление. Пришед в первобытное состояние, я сам над собою смеялся и, как помнится, в течение долговременной моей службы никогда уже не впадал в подобный пароксизм больного воображения».
«Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи!» – пишет Давыдов.
Или, о том же, в отличных, написанных уже после навсегда пережитых пароксизмов воображения стихах:
…гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон – ив сечу!
Вот пир иной нам Бог даёт,
Пир задорней, удалее,
И шумней, и веселее…
Ну-тка, кивер набекрень,
И – ура! Счастливый день!
Едва появившись в месте боёв, Давыдов стал искать, где бы ему и поскорей совершить подвиг. Он вызвался в переднюю цепь, якобы чтоб смотреть за неприятелем. Там и приметил разодетого французского офицера, стоявшего наособицу и наблюдающего за русскими.
Неподалёку были казаки, и, подъехав к ним, Давыдов попытался подбить их взять офицера в плен. Казаки оказались опытными вояками, посему адъютанту мягко отказали: «Не к чему головы подставлять, вашебродь».
Тогда раздосадованный и одновременно праздничный Давыдов рванул сам к этому офицеру, возле которого уже собрались французские кавалеристы, подозревающие, что затевается нечто нехорошее.
На скаку Давыдов выстрелил в офицера из пистолета, но… не попал.
В Давыдова выстрелили в ответ, да не по разу, все французские кавалеристы, и тоже промахнулись; а вполне могло б получиться так, что рассказ наш здесь же и оборвался бы.
Сделав круг, Давыдов вернулся: не настолько близко, чтоб в него могли легко попасть, но достаточно для того, чтоб крикнуть – и быть услышанным.
На своём отличном французском Давыдов стал вызывать француза на личный поединок. Тот в ответ кричал что-то обидное. Давыдов обзываться тоже умел, и они начали друг друга витиевато поливать, причём наш герой иногда переходил на русский – тут выбор казался шире.
Наконец, один из казаков подъехал к Давыдову и ласково попросил:
– Ваше благородие, отражение – святое дело, ругаться в нём – всё то же, что в церкви: Бог накажет!
О, тихая мудрость русского человека.
Поняв, что тут порывов души его не понимают, Давыдов умчался обратно к Багратиону.
Исполнив очередное его поручение, но не успокоившись, вернулся на то же самое место, и на этот раз уговорил казаков атаковать французский авангард.
Казаки согласились, Давыдов выстроил их, гусар и улан, и пошёл в первый в своей жизни бой.
…Вот уже бешеные лица противников – выстрел, мимо, выстрел, мимо, – сабли наголо, бьют по нему, отразил с лязгом, ещё бьют, увернулся, – бьёт сам и видит даже не кровь чужую – а мясо…
Схватка продолжалась несколько минут, обратить в бегство французов не удалось; пришлось возвращаться к своим позициям.
Давыдов, и разгорячённый, и удручённый – как же, не получилось наскоком погнать противника, – помчался обратно к Багратиону и по пути попал навстречу французским конным егерям.
Захлопали выстрелы.
Лошадь Давыдова ранили, подоспевший француз ухитрился схватить Давыдова за гусарский плащ. Давыдов с необычайной ловкостью выпростался из плаща – и оставил его в руках француза, но лошадь его уже начала заваливаться…
Вот тебе и «ура, счастливый день».
…Если б не подоспевший казачий разъезд – лежал бы адъютант Багратиона с маленькой пулькой в молодом теле или с неприятным, от сабельного удара, расколом посреди задорной головы.
Давыдову дали коня из-под убитого гусара – и он был спасён.
За первое же своё дело Давыдов получил орден Святого Владимира 4-й степени. Наградные листы (рескрипты) подписывал сам император: как выяснилось, зла он на Давыдова не держал. Багратион одарил бесшабашного адъютанта собственной буркой взамен сорванного плаща.
Уже через день Давыдов участвует в сражении при Прейсиш-Эйлау.
Там он переживёт полтора дня артиллерийской бомбёжки: «…широкий ураган смерти, всё вдребезги ломавший и стиравший с лица земли всё, что не попадало под его сокрушительное дыхание…».
Французской армией в том сражении командовал сам непобедимый Бонапарт, к тому ж у французов было численное превосходство.
В чудовищном грохоте, меж разрывов и бессчётных смертей, Давыдова непрестанно гоняли к передовой с теми или иными приказами.
Арьергардные части, которые возглавляли Багратион и Барклай-де-Толли, должны были прикрывать отступление русской армии.