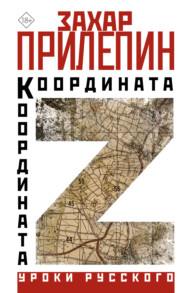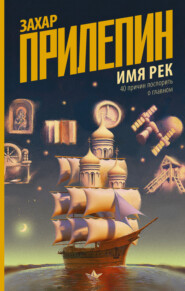По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дорога в декабре (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Господи, как больно! Мамочки, я выжег себе глаз! Какой стыд! Что я скажу Семенычу?
Натыкаясь на стены, я бегу к умывальнику, глаз щиплет, будто его посыпали солью с перцем и все это залили кипятком.
Врубаю воду, набираю в горсть и начинаю омывать свой сощуренный от боли и ужаса зрак.
– Ташевский! – орет Шея.
После шестой горсти воды, прижатой к лицу, глаз начинает разлепляться.
«Видит!» – несказанно радуюсь я.
Ресницы будто вымазаны клеем.
«Я успел его закрыть, мой глазик, – понимаю я. – Как же я успел его закрыть? А? Сигарета летела сотую долю мгновения, а он успел закрыться! Что было бы, если бы она впилась мне прямо в зрачок горящим концом? Ослеп бы?»
Еще несколько раз умываюсь, пальцами раздираю ресницы и спешу на второй этаж.
Радость, что зрение мое сохранено, настолько велика, что я бодро пихаю в бока идущих мне навстречу товарищей. Накидываю разгрузку, надеваю на бритый череп вязаную шапочку, цепляю на плечо автомат, довольно ощущая его славную и такую привычную тяжесть. Подпрыгиваю на месте: все ли нормально лежит в разгрузке, не вываливаются ли гранаты из кармашков.
Пацаны почти все уже вышли, только Монах копошит в рюкзаке.
– Давай, Монах, не тяни, – говорю я грубовато.
Он не реагирует.
Толкаясь, строимся на улице.
Смотрю на свое отделение: все тут, стоят в два ряда, ломцы хмурые. Встаю в строй – мне оставили место.
Выходит Семеныч. Провожает мрачным взглядом неспешно выбредающего из школы Монаха, взгляд профессионального военного привычно оценивает начищенность его ботинок, недовольство в глазах Семеныча сменяет брезгливость, но и она тут же исчезает – не до этого…
Смотрю на Семеныча с надеждой. Мне кажется, что все так смотрят на командира. Семеныч, отец родной…
– Бойцы! Мы не знаем, что там будет, – говорит он. – Но, надеюсь, нам дадут время, чтобы мы определились, как будем работать.
Мне очень нравится это слово – «работать». Хорошо, что он так говорит.
– Первый зарок: поддерживать связь. Рации у всех заряжены? Не будет связи – всё. Слушайте рацию! Второй зарок: бойцы смотрят на командиров, командиры делают то, что говорю я. Никакой бравады. «За мной, в атаку!» не звать. Третий зарок: не кучковаться. Толпой не так страшно, но стреляют всегда по толпе.
От слова «стреляют» по строю пробегает легкий озноб. Все-таки мы будем «работать», а в нас будут стрелять.
– Кто первый обнаруживает огневые точки противника – немедленно связывайтесь со мной. Командиры взводов всегда должны знать, где у них гранатометчики и пулеметчики, чтобы координировать огонь.
Рядом с Семенычем стоит начштаба, но он не пойдет с нами. «И хорошо, что не пойдет», – думаю я. У капитана Кашкина вид виноватый. Чуть поодаль перетаптывается дядя Юра, взгляд его задумчив и бестолков одновременно, как у пингвина.
«Дядя Юра, – думаю с нежностью, – может быть, будешь меня вытаскивать с поля боя… Легкораненого. В мякоть ноги… “Кость не задета”… И – домой».
– Лопатки все взяли?.. Через пятнадцать минут по трассе пойдет колонна, мы загружаемся в грузовики, – заканчивает Семеныч.
Выходим за ворота. Оглядываюсь на школу. Из кухоньки появляется Амалиев, но тут же прячется.
– Удачи, мужики! – слышу я в рации голос кого-то из пацанов, оставшихся на крыше.
На обочине трассы курящие сразу закуривают. С минуту все стоят, выглядывая, не едет ли колонна. Потом бойцы по одному начинают присаживаться на корточки, а кто и прямо на зад.
– Не расслабляйтесь! – говорит Семеныч. – Костя! Сынок! Организуйте наблюдение…
«Чего тут может быть страшного? – думаю я о городе, который еще недавно пугал меня всем своим видом, каждым домом, любым окном. – Такие тихие места…»
Докуриваю и только сейчас вспоминаю, что я себе едва не сжег глаз. Трогаю его тихими, недоверяющими пальцами, как слепой. Глаз на месте, не гноится, не косит, все в порядке, смотрит по сторонам, как настоящий; второй, здоровый, за ним поспевает.
Еще издалека слышим колонну. Все встают с мест, хотя машины еще не видны.
– А танков нет… – говорит Язва задумчиво, определяя машины по звуку.
Мы ждем еще и наконец видим колонну – три бэтээра, три грузовичка. У пацанов заметно портится настроение.
На первом бэтээре среди нескольких солдат, нахохлившись, сидит Черная Метка.
Колонна подъезжает, Черная Метка спрыгивает с бэтээра, отряхивается и, подождав, пока водитель заглушит бэтээр, говорит:
– Здорово, мужики!
Бойцы молчат. Только Саня Скворец отвечает: «Здорово», – и это его приветствие в наступившей тишине кажется особенно нелепым. Черная Метка, будто ничего не заметив, отводит Семеныча в сторону.
– А где танки? – интересуется кто-то из парней.
Ему шепотом отвечают где.
– Итак… По данным разведки, в селе находится группа боевиков, от десяти до пятидесяти человек, – объясняет вернувшийся Семеныч.
– Чё, пятьдесят на пятьдесят? – спрашивает Плохиш.
– Будет сопровождение, два танка, – говорит Семеныч, не обращая внимания на Плохиша – но он и не обращать внимания умеет так, что сразу понимаешь: лучше заткнуться. – Мы следом за танками входим в деревню. Ну, и бэтээры… – Семеныч оглядывает машины с солдатиками. Солдатики смотрят на нас, ищут в нас, более взрослых, чистых, здоровых, успокоение.
– Живем! – говорит Шея и весьма ощутимо хлопает Монаха по спине. – Не дрейфь, архимандрит! – смеется он своей нелепой шутке.
Никто, кроме Шеи, особенно не радуется. Подумаешь, танки. В танках, наверное, не страшно, зато на каждого из нас хватит одной маленькой пульки.
«Неужели нельзя взять село усилиями одних танков? – думаю я. – Подъехать на страшной железной машине и сказать: “Сдавайтесь!” Чего они сделают, ироды, против танков? А, убегут… Мы для того, чтоб их ловить».
Я снова закуриваю, мне не хочется, но я курю, и во рту создается ощущение, будто пожевал ваты. И еще будто этой ватой обложили все внутренности головы – ярко-розовый мозг, мишуру артерий, – как елочные игрушки.
Дают команду грузиться. Пацаны легко запрыгивают в крытые брезентом кузова.
«Какие у меня крепкие, жесткие мышцы», – думаю я с горечью, забравшись в кузов.
Меня немного лихорадит. «Истерика», – определяю мысленно.