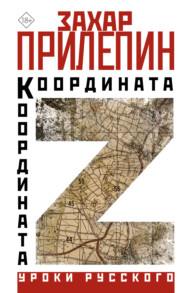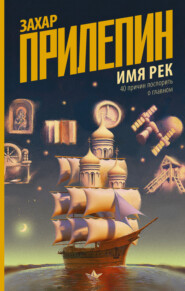По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Дорога в декабре (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, иди покурим… – предлагаю я, осведомленный о том, что Монах и не курит.
Под вопли Плохиша с крыши Монах неспешно бредет к нам и тихо улыбается. Подойдя, но так и не решив, что делать с улыбкой, Монах оставил ее на лице.
Пиво славно улеглось, создав во взаимодействии с водкой и килькой ощущение тепла и нежного задора.
– Монах, ты любишь женщин? – спрашиваю я.
– Егор, тебя заклинило? – спрашивает Скворец.
– Ладно, на себя посмотри, – незлобно отругиваюсь я. – Ну, любишь, Монах?
– Я люблю свою жену, – отвечает он.
– Так ты не женат! – я откупориваю сладко чмокнувшую и пустившую дымок банку с пивом и подаю ему.
– Егор, я не пью, – улыбается Монах.
Как хорошо он улыбается, морща лоб, как озадаченное дитя. Я и не замечал раньше. И даже кадык куда-то исчезает.
– Какое это имеет значение… – серьезно говорит Монах, отвечая на мой возглас.
– А какая она, твоя жена? – интересуюсь.
Скворец морщится на заходящее солнце, кажется, не слыша нас.
– Моя жена живет со мной единой плотью и единым разумом.
И тут у меня что-то гадко екает внутри.
– А если она до тебя жила с кем-то единой плотью? Тогда как?
– У меня другая жена. Моя жена живет единой плотью только со мной.
– Это тебя Бог этому научил?
– Я не знаю, почему ты раздражаешься… – отвечает Монах. – Девство красит молодую женщину, воздержанность – зрелую.
– А празднословие красит мужчину? – спрашиваю я.
Монах мгновение молчит, потом я вижу, как у него появляется кадык, ощетинившийся редкими волосками.
– Ты сам меня позвал, – говорит Монах.
Я отворачиваюсь. Монах встает и уходит.
– Чего он обиделся? – открывает удивленные, чуть заспанные глаза Саня.
– Пойдем. Пацаны чего-то гоношатся, – говорю я вместо ответа, видя и слыша суету в школе.
– Чего стряслось? – спрашиваю у Шеи, зайдя в «почивальню».
– Трое солдатиков с заводской комендатуры пропали. Взяли грузовик и укатили за водкой. С утра их нет.
– И чего?
– Парни поедут их искать. Поедешь?
– Конечно, поеду, – отвечаю искренне.
Вскидываю руку, сгибая ее в локте, камуфляж чуть съезжает с запястья, открывая часы. Половина девятого вечера. Самое время для поездок.
В «почивальне» вижу одетых Язву, Кизю, Андрюху Коня, Тельмана, Астахова. Они хмуры и сосредоточенны.
Плюхаюсь на кровать Скворца.
– Ямщи-ик… не гони… ло-ша-дей! – пою я, глядя на Андрюху Коня.
Конь, до сей поры поправлявший, по словам Язвы, сбрую, а верней, разгрузку, вдруг целенаправленно идет ко мне.
– Где выпил? – спрашивает он.
Я смотрю на Андрюху ласковыми глазами.
– Поваренок налил? – наклонясь ко мне, спрашивает он.
Не дождавшись ответа, Конь выходит из «почивальни». Спустя пять минут возвращается – и по вздутым карманам я догадываюсь, что он выцыганил у Плохиша два пузыря.
Андрюха Конь садится рядом со мной.
– Может, мы до утра будем их искать, – говорит он. – Надо же как-то расслабиться.
– Кильку возьми… – говорю я. – А чего не едем? – спрашиваю громко у Тельмана.
– Уже едем, – говорит он. – Черную Метку ждали.
– А его-то куда несет?
Никто не отвечает.
– Все готовы? Конь? Тельман? Сорок Пять? – спрашивает Язва.
Язва придумал Женьке Кизякову новое прозвище: Кизя-Сорок Пять или просто Сорок Пять – за тот расстрел бесноватого чеченца.
На улице стоят два подогнанных к школе «козелка». Вася Лебедев, чему-то ухмыляясь, смотрит на нас. Лезем к нему в вечно душную машину – Кизя, Астахов, я… Появляется строгий Андрей Георгиевич, следом шагает раздраженный Куцый.
– Мы другого времени не можем найти, чтоб их искать? – спрашивает он раздраженно. По голосу Куцего слышно, что разговор начался раньше, еще в здании.
Черная Метка молчит, но не отстраненно, а, напротив, молчанием давая понять, что согласен с Семенычем, однако повлиять на сложившиеся обстоятельства никак не может.