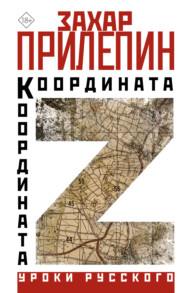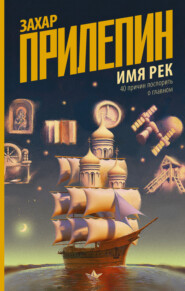По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грех (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– На кладбище пойдём? – спросил я Марысеньку.
Она отрицательно качнула головой. Отойдя подальше от людей, мы встали у качелей. Я качнул их. Раздался неприятный, особенно резкий в тишине, воцарившейся вокруг, скрип. Ёкнуло под сердцем. Качели ещё недолго покачивались, но без звука.
Мы отправились домой. Завернули за угол дома, обнялись и поцеловались.
– Я люблю тебя, – сказал я.
– Я люблю тебя, – сказала она.
– Какой сегодня день недели? – спросил я.
Марыся оглядела смурую улицу. На улице почти никого не было.
– Сегодня понедельник, – сказала она. Хотя была суббота.
– А завтра? – спросил я.
Марысенька молчала мгновение – не раздумывая о том, какой завтра день, а скорей решая, открыть мне правду или нет.
– Воскресенья не будет, – сказала она.
– А что будет?
Марысенька посмотрела на меня внимательно и мягко и сказала:
– Счастья будет всё больше. Всё больше и больше.
Грех
Ему было семнадцать лет, и он нервно носил своё тело. Тело его состояло из кадыка, крепких костей, длинных рук, рассеянных глаз, перегретого мозга.
Вечерами, когда ложился спать в своей избушке, вертел в голове, прислушиваясь: «и он умер… он… умер…»
Пытался представить, как кто-нибудь заплачет, и ещё закричит его двоюродная сестра, которую он юношески, изломанно, странно любил. Он лежит мёртвый, она кричит.
Где-то в перегретом мареве мозга уже было понимание, что никогда ему не убить себя, ему так нежно и страстно живётся, он иного состава, он тёплой крови, которой течь и течь, легко, по своему кругу, ни веной ей не вырваться, ни вспоротым горлом, ни пробитой грудиной.
Прислушивался к торкающему внутри «он умер… умер…» и засыпал, живой, с распахнутыми руками. Так спят приговорённые к счастью, к чужой нежности, доступной, лёгкой на вкус.
По дощатому полу иногда пробегали крысы.
Бабушка травила крыс, насыпала им по углам что-то белое, они ели ночами, ругаясь и взвизгивая.
По утрам он умывался во дворе, слушая утренние речи: пугливую козу, бодрую свинью, настырного петуха, – и однажды забыл прикрыть дверь в избушку. Зашёл, увидел глупых кур, суетившихся возле отравы.
Погнал их, закудахтавших (во дворе, строгий, откликнулся петух). Подпрыгивая, роняя перья, не находя дверь (петух во дворе неумолчно голосил, позёр пустой), куры выскочили наконец во двор.
Он долго, наверное несколько часов, переживал, что куры затоскуют, как всякое животное перед смертью, и передохнут: бабушка огорчится. Но куры выжили – может быть, склевали мало, или, вернее, им не хватило куриного мозга понять, что они отравились.
Крысы тоже выжили, но стали гораздо медленнее передвигаться, словно навек задумались и больше никуда не спешили.
Однажды ночью, напуганный шорохом, включил свет в избушке. Крыса, казалось, бежала, но никак не могла пересечь комнату. Глядя на внезапный свет, забыла путь, пошла странной окружностью, как в цирке.
Схватил кочергу, вытянул тонкое, с тонкими мышцами тело, ударил крысу по хребту, и ещё раз, и ещё.
Присел на корточки, разглядывал хитрый, смежившийся глаз, противный лысый хвост. Подхватил кочергой труп, вынес во двор, стоял, босой, глядя на звёзды, с мёртвой крысой.
С тех пор перестал говорить на ночь: «…он… умер…»
Проснувшись, закрывал скрипучую дверь в избушке, где дневал-ночевал, никому не мешая, читая, глядя в потолок, дурака валяя, и шёл в дом, где бабушка давно встала, чтоб подоить козу, выпустить кур, отогнать уток на реку, приготовить завтрак, а дед сидел за столом, стекластые очки на носу, чинил что-то, громко дыша.
Он заглядывал в большую комнату, видел спину деда и сразу исчезал беззвучно, пугаясь, что его попросят помочь. Он ещё мог разобрать что-нибудь, но собрать обратно… детали сразу теряли смысл, хотя недавно казалось, что их уклад ясен и прост. Оставалось только смести рукой металлическую чепуху, невозвратно бросить в иной мусор, самого себя стыдясь и глупо улыбаясь.
– Встал? – говорила бабушка приветливо, тихо двигаясь, никогда не суетясь у плиты.
Он присаживался за столик на маленькой кухне, следя за мушиными перелётами. Поднимался, брал хлопушку – деревянную палку, увенчанную чёрным резиновым треугольником, под звонким ударом которого всмятку гибли мухи.
Бить мух было забавой, быть может, даже игрой. То время, когда он ещё играл, было совсем недалеко, можно дотянуться. Иногда находил на чердаке, куда лазил за старыми, пропылёнными (и оттого ещё более желанными) книгами, безколёсые железные машины и терпко мучился желанием перенести их в свою избушку – если уж не по полу повозить, так хоть полюбоваться.
Бабушка хорошо молчала, и её молчание не требовало ответа.
Картошечка жарилась, потрескивая и салютуя, когда открывали крышку и ворошили её, разгорячённую.
Солёные огурцы, безвольные, лежали в тарелке, оплыв слабым рассолом. Сальце набирало тепло, размякая и насыщаясь своим ароматом, – после холода, из которого его извлекли.
Он разгонял мух со стола и вдруг с интересом приглядывался к хлопушке – к её тонкому, крепкому, деревянному остову, врезающемуся в чёрный треугольник.
Бросал хлопушку, морщился брезгливо, вытирал руку о шорты, втягивал живот, в груди ломило, словно выпил ледяной воды (но вкуса влаги не осталось, только тягостная ломота).
«Отчего это мне дано… Зачем это всем дано… Нельзя было как-то иначе?»
– Дед-то будет завтрекать? – спрашивала бабушка, выключая конфорку.
– Конечно, будет, – с радостью отвлекаясь от самого себя, бодро отзывался внук. Он знал, что дед без него не садился за стол.
Шёл в комнату, громко звал:
– Бабушка есть зовёт!
– Есть?.. – отзывался дед раздумчиво. – Я и не хочу вроде… Ну пойдём, посидим. – Он снимал очки, аккуратно складывал отвёртки и пассатижики, вставал, кряхтя. Тапки шлёпали по полу.
Спокойно, лёгким гусиным движением дед склонял голову перед притолокой и входил на кухню. Мельком, хозяйски оглядывал стол, будто выискивал: вдруг чего не хватает; но всё всегда было на месте, и, верится, не первый десяток лет.
– Не выпьешь, Захарка? – с хорошо скрытым лукавством спрашивал он.
– Нет, с утра-то зачем, – отвечал внук деловито.
Дед еле заметно кивал: хороший ответ. Степенно ел, иногда строго взглядывая на бабушку. Спрашивал что-то по хозяйству.