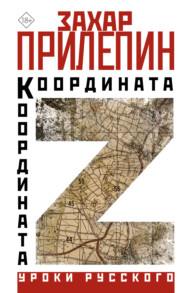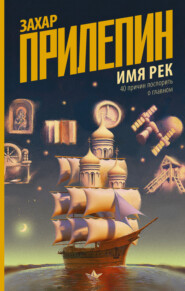По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Патологии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы обустраиваем небольшими плитами гнездо для пулемёта на фронтальной стене школы, прямо над входом. На углах крыши выкладываем кирпичом, мешками, набитыми песком, ещё четыре поста. На каждом из постов – по две бойницы.
– Всё равно – лажа, – говорит Шея. – Один выстрел из “граника” – и…
Тем временем пацаны из второго взвода в овраге за школой, с той стороны, где нет забора, ставят растяжки.
Потом все вместе приступаем к постройке двух дотов по разным сторонам школы.
Начштаба нашёл в подвале цемент, песок, брус. Среди бойцов отыскались мастера на все руки.
В работе видно, насколько, с переизбытком, здоровы наши пацаны, легко берущие вес, который и четверо взрослых мужиков не взяли бы.
Иные бравируют своей силой, но в меру.
Звучит и потрескивает на лету весёлая, непрестанная матерщина.
Семёныч время от времени просит по рации посты на крыше смотреть во все глаза: едва ли не весь отряд толпится в школьном дворе – один выстрел из подствольника, и сразу будет мясной урожай.
Заботливо украшаем не доделанные толком доты маскировочными сетями.
Полюбовавшись на дело крепких и цепких рук своих, собираемся обедать.
Отведав щей и гречки с тушёнкой, позвякивая тарелками, тянемся мыть посуду.
Те, кому ме?ста возле умывальников не достаётся, идут курить или ещё куда.
Я, по любимой привычке, смолю, запивая дым горячим чайком.
Мо?ю тарелку, возвращаюсь к своей лежанке в “почивальне”, как мы прозвали наше помещенье, пытаюсь улечься и, только коснувшись затылком подушки, слышу взрыв. Грохает где-то неподалёку, вроде бы на втором этаже… с потолка сыпется побелка. Вскакивает с места и лает Филя, ночующий вместе с нами, под кроватью сапёра Старичкова.
“Началось…” – думаю я, спрыгивая с кровати и ещё не определив для себя, что именно началось. Тяну за ствол лежащий под подушкой автомат.
– Кто-то подорвался, – тихо говорит со своей кровати Шея, не двигаясь и, видимо, понимая, что спешить особенно некуда.
Пацаны кинулись было к месту взрыва.
– Стоять! – орёт Семёныч, вбегающий с первого этажа.
– Док! – зовёт Семёныч дядю Юру, так мы называем нашего доктора.
Дядя Юра – подобно пингвину суетливый и сосредоточенный одновременно и сам похожий на чуть похудевшего пингвина – спешит бок о бок рядом с Семёнычем. Шагая за ними, я замечаю, что в то время как Семёныч идёт, дядя Юра, не умея подстроиться под шаг командира, иногда, семеня, бежит.
Док обгоняет Семёныча в конце коридора, увидев нашего бойца, молодого, из второго взвода, пацана, незадолго до командировки устроившегося в отряд, я даже не помню, как его зовут. Он лежит возле одного из кабинетов, на спине, согнув ноги. Косяк двери выворочен. Тяжело стоит пыль.
Я ещё не успел разглядеть подорвавшегося, как присевший возле него док сказал тихо:
– Живой… – И добавил шёпотом: – Осколочные…
Раненый, будто в такт чему-то, мелко постукивает ладонью по полу. Когда док присел возле него, движение руки прекратилось, и раненый застонал.
Док быстрыми ловкими движениями взрезает скальпелем брючину, открывается нога, покрытая редкими волосами, ляжка, откуда-то сверху на эту ляжку сбегает струйка крови, потом ещё одна, и очень быстро почти вся нога становится красной. Док разрезает вторую брючину и сдвигает небрезгливым пальцем трусы. Из кривого розового члена торчит осколок. Пока я смотрю на этот осколок, док вкалывает раненому укол, обезболивающее. Промедол, кажется.
– Док, а я с девушками смогу? – неожиданно спрашивает раненый, открыв глаза.
– Только с мальчиками… – тихо говорит Язва у меня за спиной. Мне кажется, что он улыбается.
Док не отвечает. Семёныч брезгливо морщится. Но брезгливость его не вызвана видом раненого.
Из-под спины пацана растекается между кирпичных осколков и белой кирпичной пыли густая лужа. Я двигаю ногой один из битых кирпичей. Бок у него – окровавленный. Док рвёт пуговицы на кителе раненого, взрезает тельник. В груди, в животе, на боку, беспрестанно подрагивая, кровоточат ранки.
Док цепляет ногтями один из виднеющихся в боку осколков, вытаскивает его, мелкий, похожий на клювик злой птицы. Затем ещё один – из члена, придавив половой орган другой рукой, обернутой в платок. Раненый вскрикивает.
Я спускаюсь вниз. По дороге закуриваю, хотя курить в здании, за исключением туалета, Семёныч запретил. Следом идёт Шея.
– Говорили же не лезть в классы. Что за уроды… – говорит ни для кого.
– Старичков! – зовёт спускающийся следом Семёныч нашего сапёра. – Ты чем занимался?
– Я растяжки ставил со стороны оврага.
– Он растяжки ставил, – подтверждает начштаба.
Раненого сносят вниз.
Вызывают из штаба округа машину.
– Ну мудак, – всё ругается на улице Шея.
– Тебе что, его не жалко? – спрашиваю я.
– Мне? Мне жён и матерей жалко. Сейчас этого урода привезут в Святой Спас, он через неделю бегать будет, а у всей родни из-за него истерика начнётся. Моя мать с ума сойдёт.
Выходит, улыбаясь, док.
– Чего он? – неопределенно спрашивает кто-то, имея в виду подорвавшегося.
– Говорит, зашёл в класс и услышал щелчок. Успел отпрыгнуть.
Семёныч через начштаба объявляет построение.
На построении мы слышим, что весь младший начальствующий состав – размандяи, старший начальствующий состав – размандяи, что если мы по дороге сюда забыли дома воздушные шары, флажки и мыльные пузыри, то… ну и так далее.
В итоге на каждом этаже выставляют пост, а командир второго взвода, Костя Столяр, самолюбивый хохмач и шутило, получает от Семёныча искренние уверения, что на премиальные, а также доброжелательное отношение офицерского состава он может не рассчитывать.
– Я сейчас пойду его добью, – говорит Костя после развода, имея в виду раненого.
Через час невезучего и чересчур любопытного бойца увезли.
Из штаба приехал и остался в школе чин; где-то я его уже видел…