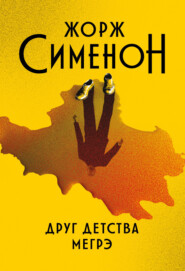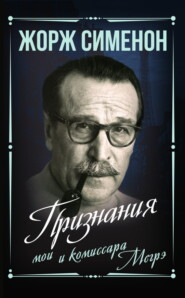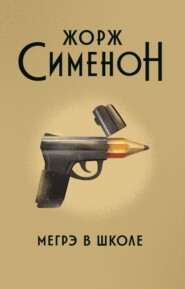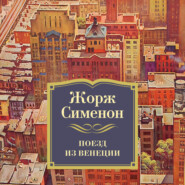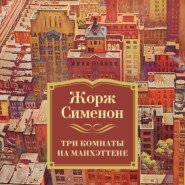По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три комнаты на Манхэттене
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В соседнем доме помещалась шоколадная фабрика, и снизу, из зарешеченных подвальных окон, на нас дохнуло жаркой сладостью.
– Не знаю, как быть с башмаками… на заказ уже не успеешь сделать… Ну ничего!..
Матушка была в своем черном суконном пальто в талию, с узенькой горжеткой из куницы.
– Ни во что не вмешивайся… А главное не сболтни, что мы заказываем у Нагельмакеров… Не то возьмут дороже… Чулки у тебя по крайней мере целые, без дырок?
Снова на свет божий появилось большое черное портмоне. Все в тот день было черным: одежда матушки и прохожих, булыжник мостовой, окутанные мраком дома, само небо над нашими головами.
– А галстук? – заикнулся было я.
– Дома сколько угодно лент… Я тебе сама сделаю.
– Синий в горошек…
– Там будет видно… Смотри себе под ноги…
Я так редко гулял с матушкой, «рабой этой лавки», как она любила выражаться, что, если выпадал такой счастливый случай, она всегда водила меня в кондитерскую Хозе и угощала пирожным. Но сейчас матушка и не вспомнила о пирожных. Поглощенный мыслью о новом костюме, я тоже не вспомнил или, точнее, вспомнил, но когда мы уже миновали кондитерскую.
То мы шагали по безлюдным тротуарам едва освещенных улиц, то вдруг окунались в свет и оживление торгового квартала.
– Надо бы купить рыбы на ужин… – вслух размышляла матушка. – Хотя нет… весь дом провоняет…
Уж очень у нас было тесно! Сразу за лавкой квадратная комната – подсобное помещение: кухня и столовая одновременно, с круглым столом посередине и застекленной дверью, сквозь которую, отодвинув занавеску, можно было наблюдать за тем, что делается в лавке.
Так называемая «комната» над лавкой служила мне детской, а родители спали рядом, отделенные от меня деревянной, оклеенной обоями перегородкой.
– Да что ты тащишься, Жером!.. Хоть сегодня постарался бы не сердить меня…
Мы приближались к дому. Уже виден был мертвенный свет бакалеи Визера, и тут, именно на этом свету, мне бросились в глаза два человека: они бежали согнувшись, держа под мышкой кипы только что полученных на вокзале газет. В это время доставляли парижские газеты, но обычно продавцы никогда так не бежали.
Прохожие останавливались, провожали взглядом газетчиков, и на их лицах я заметил то же озабоченное выражение, какое поразило меня сегодня у отца с матерью.
– Газета «Пти паризьен»… Специальный выпуск… Расстрел Феррера!.. Читайте подробности смерти Феррера…
Я понимал: что-то назревает и весь день какой-то особенный. Первое тому свидетельство: газетчики никак не отдышатся от бега. Второе: пять-шесть мужчин – рабочие, купившие газеты, сошлись кучкой, и к ним тут же направились двое полицейских.
– Давай-давай!.. Расходись!.. Никаких сборищ…
Рабочие отходили медленно и неохотно. Полицейские бесцеремонно их подталкивали. Приказчики из бакалеи Визера в серых халатах стояли на пороге магазина вместе с покупателями. На что они глазеют? Что тут происходит?..
– Читайте подробности казни Феррера…
Один из продавцов газет был в старом картузе с изломанным козырьком, что в моих глазах сразу относило его к категории тех, кого матушка называла оборванцами. Голос у него звучал хрипло. Казалось, он кому-то или чему-то бросает вызов. На нем даже не было пальто. Он бежал все так же согнувшись, а газеты его мокли под дождем.
– Читайте…
Я чувствовал вокруг какое-то скрытое удовлетворение, удовлетворение тем, что назревало, драмой, которая давно готовилась и наконец разыгралась.
– Господи… – вздохнула матушка, увлекая меня за собой, словно опасалась, что сейчас начнется драка.
– Читайте…
Сделав крюк, матушка перешла на противоположный тротуар, чтобы не проходить мимо рабочих, которые отступали нехотя, с явной досадой.
– Опять жди забастовок…
Неужели она обращалась ко мне?
Во всяком случае, дойдя до нашей двери, она вздохнула с облегчением. Правда, так бывало всегда. Матушке дышалось свободно лишь у себя в лавке, среди полок, забитых штуками коленкора. В лавке оказалось два или три покупателя, точно уж не помню. Даже не сняв с себя пальто, матушка встала за прилавок.
– Чем могу служить, мадам Жермен?.. Жером!.. Ступай наверх к отцу…
В комнате купленная на распродаже громоздкая кровать красного дерева заняла место моей. А мою поставили в спальню родителей, в проеме между двух окон. В наше отсутствие отец, должно быть, посылал Урбена за стеклом. Теперь, вооружившись блестящим маленьким инструментом, он резал стекло, чтобы вставить в рамку с портретом тети Валери.
– Мать нашла, что хотела?
– Она купила мне охотничий костюм и башмаки.
Окно полумесяцем не занавешивали. Я посмотрел на улицу и в доме напротив увидел Альбера – он ел тартинку с вареньем, – и еще я увидел подол черной юбки и черные войлочные шлепанцы его бабушки.
– Подай-ка мне со стола гвоздь.
Забивая его, отец спросил:
– Что это кричат на улице?
– Расстреляли Феррера…
– Тем лучше!
Я так и не понял, к чему относилось отцовское «тем лучше». Он уже думал о другом.
– Если тетя спросит, давно ли портрет висит на стене, скажешь, что сколько себя помнишь. Понял? Это очень важно… Будешь постарше, поймешь…
Не знаю, когда матушка успела раздеться и когда ушла мадемуазель Фольен. Газетчики, пробегая по площади, выкрикивали новости.
Немного погодя покупательница сообщила матушке:
– В кафе Костара была свалка. Одного забрали в участок… Весь нос ему расквасили…
В тот вечер я скоро уснул, но спал беспокойно и всякий раз, просыпаясь, слышал, как отец с матушкой шептались в постели. Мне мешал непривычный свет газового фонаря в ремесленном дворе, луч от него ложился полосой как раз над моей кроватью. А дождь все лил…
Утром матушка разбудила меня со словами:
– Одевайся скорей! Приезжает тетя… Главное, будь к ней очень внимателен.
Отец давно отбыл с фургоном, парой жеребцов и стариком Урбеном. У нас в доме могло произойти любое, но родители оставались «рабами торговли», как любила повторять матушка. Фургон Андре Лекера, зарекомендовавшая себя фирма, должен был неукоснительно появляться на всех ярмарках, а матушка столь же неукоснительно, ровно в восемь, открывать ставни лавки.
– Не знаю, как быть с башмаками… на заказ уже не успеешь сделать… Ну ничего!..
Матушка была в своем черном суконном пальто в талию, с узенькой горжеткой из куницы.
– Ни во что не вмешивайся… А главное не сболтни, что мы заказываем у Нагельмакеров… Не то возьмут дороже… Чулки у тебя по крайней мере целые, без дырок?
Снова на свет божий появилось большое черное портмоне. Все в тот день было черным: одежда матушки и прохожих, булыжник мостовой, окутанные мраком дома, само небо над нашими головами.
– А галстук? – заикнулся было я.
– Дома сколько угодно лент… Я тебе сама сделаю.
– Синий в горошек…
– Там будет видно… Смотри себе под ноги…
Я так редко гулял с матушкой, «рабой этой лавки», как она любила выражаться, что, если выпадал такой счастливый случай, она всегда водила меня в кондитерскую Хозе и угощала пирожным. Но сейчас матушка и не вспомнила о пирожных. Поглощенный мыслью о новом костюме, я тоже не вспомнил или, точнее, вспомнил, но когда мы уже миновали кондитерскую.
То мы шагали по безлюдным тротуарам едва освещенных улиц, то вдруг окунались в свет и оживление торгового квартала.
– Надо бы купить рыбы на ужин… – вслух размышляла матушка. – Хотя нет… весь дом провоняет…
Уж очень у нас было тесно! Сразу за лавкой квадратная комната – подсобное помещение: кухня и столовая одновременно, с круглым столом посередине и застекленной дверью, сквозь которую, отодвинув занавеску, можно было наблюдать за тем, что делается в лавке.
Так называемая «комната» над лавкой служила мне детской, а родители спали рядом, отделенные от меня деревянной, оклеенной обоями перегородкой.
– Да что ты тащишься, Жером!.. Хоть сегодня постарался бы не сердить меня…
Мы приближались к дому. Уже виден был мертвенный свет бакалеи Визера, и тут, именно на этом свету, мне бросились в глаза два человека: они бежали согнувшись, держа под мышкой кипы только что полученных на вокзале газет. В это время доставляли парижские газеты, но обычно продавцы никогда так не бежали.
Прохожие останавливались, провожали взглядом газетчиков, и на их лицах я заметил то же озабоченное выражение, какое поразило меня сегодня у отца с матерью.
– Газета «Пти паризьен»… Специальный выпуск… Расстрел Феррера!.. Читайте подробности смерти Феррера…
Я понимал: что-то назревает и весь день какой-то особенный. Первое тому свидетельство: газетчики никак не отдышатся от бега. Второе: пять-шесть мужчин – рабочие, купившие газеты, сошлись кучкой, и к ним тут же направились двое полицейских.
– Давай-давай!.. Расходись!.. Никаких сборищ…
Рабочие отходили медленно и неохотно. Полицейские бесцеремонно их подталкивали. Приказчики из бакалеи Визера в серых халатах стояли на пороге магазина вместе с покупателями. На что они глазеют? Что тут происходит?..
– Читайте подробности казни Феррера…
Один из продавцов газет был в старом картузе с изломанным козырьком, что в моих глазах сразу относило его к категории тех, кого матушка называла оборванцами. Голос у него звучал хрипло. Казалось, он кому-то или чему-то бросает вызов. На нем даже не было пальто. Он бежал все так же согнувшись, а газеты его мокли под дождем.
– Читайте…
Я чувствовал вокруг какое-то скрытое удовлетворение, удовлетворение тем, что назревало, драмой, которая давно готовилась и наконец разыгралась.
– Господи… – вздохнула матушка, увлекая меня за собой, словно опасалась, что сейчас начнется драка.
– Читайте…
Сделав крюк, матушка перешла на противоположный тротуар, чтобы не проходить мимо рабочих, которые отступали нехотя, с явной досадой.
– Опять жди забастовок…
Неужели она обращалась ко мне?
Во всяком случае, дойдя до нашей двери, она вздохнула с облегчением. Правда, так бывало всегда. Матушке дышалось свободно лишь у себя в лавке, среди полок, забитых штуками коленкора. В лавке оказалось два или три покупателя, точно уж не помню. Даже не сняв с себя пальто, матушка встала за прилавок.
– Чем могу служить, мадам Жермен?.. Жером!.. Ступай наверх к отцу…
В комнате купленная на распродаже громоздкая кровать красного дерева заняла место моей. А мою поставили в спальню родителей, в проеме между двух окон. В наше отсутствие отец, должно быть, посылал Урбена за стеклом. Теперь, вооружившись блестящим маленьким инструментом, он резал стекло, чтобы вставить в рамку с портретом тети Валери.
– Мать нашла, что хотела?
– Она купила мне охотничий костюм и башмаки.
Окно полумесяцем не занавешивали. Я посмотрел на улицу и в доме напротив увидел Альбера – он ел тартинку с вареньем, – и еще я увидел подол черной юбки и черные войлочные шлепанцы его бабушки.
– Подай-ка мне со стола гвоздь.
Забивая его, отец спросил:
– Что это кричат на улице?
– Расстреляли Феррера…
– Тем лучше!
Я так и не понял, к чему относилось отцовское «тем лучше». Он уже думал о другом.
– Если тетя спросит, давно ли портрет висит на стене, скажешь, что сколько себя помнишь. Понял? Это очень важно… Будешь постарше, поймешь…
Не знаю, когда матушка успела раздеться и когда ушла мадемуазель Фольен. Газетчики, пробегая по площади, выкрикивали новости.
Немного погодя покупательница сообщила матушке:
– В кафе Костара была свалка. Одного забрали в участок… Весь нос ему расквасили…
В тот вечер я скоро уснул, но спал беспокойно и всякий раз, просыпаясь, слышал, как отец с матушкой шептались в постели. Мне мешал непривычный свет газового фонаря в ремесленном дворе, луч от него ложился полосой как раз над моей кроватью. А дождь все лил…
Утром матушка разбудила меня со словами:
– Одевайся скорей! Приезжает тетя… Главное, будь к ней очень внимателен.
Отец давно отбыл с фургоном, парой жеребцов и стариком Урбеном. У нас в доме могло произойти любое, но родители оставались «рабами торговли», как любила повторять матушка. Фургон Андре Лекера, зарекомендовавшая себя фирма, должен был неукоснительно появляться на всех ярмарках, а матушка столь же неукоснительно, ровно в восемь, открывать ставни лавки.