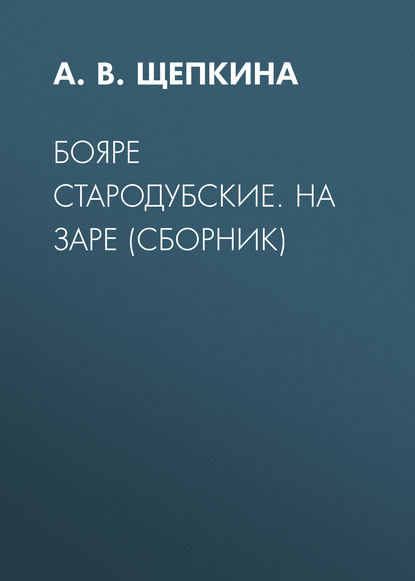По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бояре Стародубские. На заре (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что ты, Иван, или опасаешься идти к князю!
– Иван за себя не боится, а за тебя на сердце непокойно. Давно хожу к Василию, и к другим ты людей посылаешь, то мне боязно на сердце. Бывает добро, бывает и худо.
– Ну, что же? – спрашивала царевна не без суеверия, отыскивая значение в словах блаженного.
– Меня люди не обижают, а тебя да хранит Господь. Ныне день, а завтра, смотришь, и другой: так Создателю нашему угодно было! Прощай, царевна, я пойду, я тебя послушаю. Тебя и все слушают, царевна! – прибавил он, и Софья усмехнулась самодовольно. Она проводила Ивана через другую комнату до лестницы, чтоб устранить от него расспросы боярыни Анны Петровны.
– Час поздний, – сказала она, вернувшись от лестницы. Все поспешили свернуть свои работы и оставить царевну Софью одну в ее покоях, простясь с нею. К ней тихой поступью вошла ее постельница, чтобы, по обыкновению, приготовить постель царевны. Постельница вошла из крестовой комнаты в опочивальню, у двери которой на одной стене было нарисовано изображение царя Давида, молившегося на коленях.
– Все тебя слушают… – повторила Софья слова блаженного. – Да, он смекает, при всей простоте своей! Не старшая я сестра, меня слушают, сами сестры смирны, покорливы, без меня постригли бы их давно; ничего не смекают; поддержки у нас нет, кроме боярина Милославского… – закончила Софья и боязливо подняла глаза свои на иконы, перед которыми в виде паникадила висела серебряная лампада; ее слабое пламя одно освещало молельню. Постельница, молодая женщина, с бойким и смышленым видом, вышла между тем из опочивальни царевны и ждала, не взглянет ли, не спросит ли о чем Софья.
– Спасибо, Федорушка, – обратилась к ней царевна, – время теперь помолиться перед сном…
Смышленая женщина поняла, что не время еще приступать к своим обычным пересказам всего совершившегося днем в тереме и в городе, и вышла в другую комнату, присела там на скамеечке, у печки с расписными изразцами. Оставшись одна, царевна тревожно расхаживала по комнате около окон; не могла она сразу приступить к молитве; походив в раздумье, она остановилась, наконец, перед иконами и начала читать молитвы. Но молитва ее была непродолжительна: в сердце не было кротости и смирения, с которыми и душа настраивается к молитве.
Окончив краткую молитву, царевна перешла в свою опочивальню, где была приготовлена постель на высокой кровати с богатой резьбой колонок и с тяжелым постельным занавесом, спускавшимся с потолка на золотой цепи с круглым позолоченным шаром. Царевна села на большое кресло с резной спинкой и протянула руки к стоявшему на столе подле нее ларцу, украшенному богато инкрустациями из перламутра, с тонкой позолотой по дереву. Вынув из ларца круглое ручное зеркало, она сняла повязку, распустила волосы и внимательно всматривалась в свое лицо. Она видела в зеркале отразившееся свежее, полное лицо и полную шею; темные глаза глядели на нее из зеркала с привычным ей проницательным напряжением; лицо царевны приняло выражение самодовольное, она успокоилась, оглядев себя в зеркале, но, опустив зеркало на колени, сидела она, глубоко задумавшись.
«Увижу ли я князя Василия завтра? Что-то он ответит на письмо, что Иван понес к нему?..» – думала она, и потом проносился целый ряд мыслей и вопросов в голове ее; глаза глядели озабоченно куда-то; они проникались внутренним огнем от беспокойных мыслей и чувств.
«Ведь живут же иначе, не по-нашему, в иностранных землях, царевны… – думалось ей. – Если бы Бог дозволил мне устроить себе другую, счастливую долю! Выходят же там на престол и царствуют царевны… Федор болен, но мачеха у нас на дороге у всех. Теперь хотя в тереме живется свободней и чужих допустить можно…»
– Да! Федора!.. – кликнула царевна, желая расспросить постельницу.
– Здесь я, царевна, что приказать угодно? – говорила, входя к ней, смуглая Федора, и говорила, изменяя звуки русской речи на украинский манер. Постельница была родом из Украйны и взята во дворец по сиротству ее. Лукавством и сметливостью она умела приобрести доверие Софьи, искавшей помощников для своих планов. Снимая с себя дорогие серьги и другие украшения, царевна передавала их Федоре, помещавшей все в стоявшем на столе ларце. Когда постельница приблизилась, чтобы снять с полных ног царевны сафьяновые, шитые золотом сапожки, Софья спросила ее:
– Что слышно о царице Наталье?
– Слышно, что тужит царица о сынке своем, говорит, что обижен он и позабыт всеми. А сынок такой бойкий и затейливый, сказывала мне царицына постельница.
– Кто там у них бывает? – спросила царевна, уже заплетая волосы и готовясь прилечь на свое высокое изголовье.
– А все боярин бывает у них, Матвеев Артамон Сергеевич, да бывают братья царицы, Нарышкины.
Царевна была уже в постели, подле нее на полу приготовила себе постель Федора, продолжая пересказывать все слышанное про Наталью Кирилловну. И в тишине, при слабом освещении горевшей лампады, царевна прислушивалась к пересказам своей приближенной, узнававшей днем все, что желала знать царевна о селе Преображенском. В Преображенском жила теперь овдовевшая царица с трехлетним сыном Петром и дочкой Натальей. Рассказывала Федора обо всем, что болтал живущий в Москве народ и что делалось в Стрелецкой слободе, куда ходила к знакомым по поручению царевны. Софья Алексеевна выслушивала, сколько ей надо было для своих планов, и, наконец, выслушав достаточно, говорила: «Ну, прощай, спи себе, Федорушка!» И все смолкало в теремном покое.
Наступившая ночь на время убаюкивала заботы и злобу дня. Засыпала вражда и алчность, засыпала и ненависть притесненных и недовольных; но они просыпались наутро с той же силой, стремясь истребить все, что угнетало или стояло преградой к разгулу или довольству. На время отдыхала и Москва от прекратившейся смуты; притихала борьба на Украйне; но то был краткий и обманчивый отдых. Дикие толпы татар и турецкие нашествия продолжали грозить издали. Они накликались то Польшей, то запорожцами и проходили по Украйне как ураган, все истребляя, сжигая города и села, уводя в полон толпы малороссов и не щадя на пути и семейства польских шляхтичей, невзирая на договоры с Польшей. Опасность грозила на окраинах Руси, но еще опаснее было накипавшее недовольство стрелецкого войска в самой Москве. А из терема, где с сестрами и тетками взаперти скучала и боялась будущего смышленая голова царевны Софьи, то и дело бросали искры в готовый вспыхнуть порох Стрелецкой слободы. Общие надежды и выгоды соединяли эти далекие концы Москвы.
Боярин Артамон Сергеевич Матвеев был очень не весел. Он только что вернулся в свои хоромы в Москве из села Преображенского, где жила недавно овдовевшая царица Наталья Кирилловна с сыном своим, тогда еще малым отроком Петром; она жила здесь, удаленная от Кремля и его дворцов и от не любивших ее падчериц. В селе Преображенском находился тот загородный дворец, который был устроен покойным царем Алексеем Михайловичем по своему вкусу и на утеху себе и любимой семье своей. Преображенское лежало на берегах речки Яузы, от него тянулось сокольницкое поле до самой рощи, которая и ныне зовется Сокольниками и составляет любимое место жителей Москвы для гуляний. В окрестных рощах происходила обыкновенно любимая потеха царя Алексея Михайловича – соколиная охота. В загородном Преображенском дворце шли другие забавы; в нем была выстроена особая палата, «комедийная храмина»; в ней давались представления с содержанием, взятым из Библии. То были самые начальные, одни из первых представлений на Руси. Они были устроены по желанию царя Алексея Михайловича, после возвращения его из похода на Литву, где он ознакомился с театром в больших городах, им же присоединенных к России.
В селе Преображенском все напоминало боярину Матвееву то счастливое время, когда он был в силе при молодом царе Алексее Михайловиче, когда он был любимцем царя, и позднее, после второй женитьбы его на царице Наталье Кирилловне, воспитавшейся в доме Матвеева. Все изменилось с неожиданной кончиной еще нестарого и, казалось, сильного царя Алексея. Овдовевшая царица была удалена от падчериц и молодого царя Федора. Артамон Сергеевич Матвеев остался предан овдовевшей царице и ее сыну и был в немилости у ее падчериц и молодого царя. Он часто навещал Наталью Кирилловну в ее изгнании в Преображенском; он посетил ее и сегодня и нашел ее невеселой и в большой тревоге.
– Свет ты мой, Артамон Сергеевич! – говорила ему царица Наталья Кирилловна, заливаясь слезами. – Слухи дошли до меня через мою постельницу, – от служителей во дворце она слышала, что хотят сослать тебя из Москвы!
– Не верь слухам, царица, то нарочно смущают тебя! Успокойся, дорог мне покой твой и счастье твое и сына твоего!
Так успокаивал царицу боярин Матвеев, сам неспокойный в душе. Он знал, что теряла она в нем преданного слугу и советника для себя и для сына. Чтобы рассеять страх ее, боярин притворялся, что не верит таким слухам. Он заговорил с ней о сыне, желая направить внимание ее в другую сторону, и просил позволения присутствовать при его потешных забавах. Вместе с царицей пошли они взглянуть на игры царевича Петра, на его полк, набранный из маленьких ровесников его, боярских детей. Между детьми в полку его было несколько взрослых людей, но карликов и подходивших по росту к детям; так один из них, прозванный Никита Комар, был пристроен к полку в помощь малолетним детям-воинам. Полюбовавшись несколько времени играми царевича, здорового и неутомимого, Артамон Сергеевич поспешил к себе домой. Он торопился призвать к себе Симеона Полоцкого, теперь близкого к царю и бывшего его учителя. Матвеев просил Полоцкого посетить его, имея в виду узнать от него о настроении при дворе против него, Матвеева. Он знал вражду к нему бояр Милославских, ближайших родственников молодого царя. Боярин Артамон Сергеевич все еще занимал почетные места; он заведовал Посольским приказом, ведал дела с иностранными державами и дела по войнам в Малороссии. Но недавно отняли у него заведование царской аптекой, и Матвеев предвидел в этом недоверии начало опалы. Он понял, что совершилось это по наветам Софьи, сестры больного царя, и по наветам ее верховой, приближенной боярыни Хитрово.
Около вечера Артамон Сергеевич сидел в своей большой приемной палате и ждал к себе Симеона Ситиановича Полоцкого; он надеялся еще, может быть, воспользоваться его влиянием на царя. Пригласил он его под предлогом взглянуть на книги, только что построенные, как тогда говорилось, и принесенные из книгопечатни Матвеева.
Дом боярина Матвеева был убран роскошно и с уменьем: у него первого можно было встретить все, что тогда считалось редким и новым, чего не умели сделать на Руси. Кроме ковров, обтянутых сукном или бархатом стен и чистых стекол в окнах, украшали комнаты прекрасно разрисованные потолки, а на окнах стояли часы немецкой работы. У стен стояли большие зеркала в хрустальной раме, украшенные резьбой из кости, с изображением людей и зверей; другие зеркала в деревянных станках с менее затейливой резьбой на дереве. В хоромах боярина были и картины, и персоны, то есть портреты, и фряжские листы, то есть эстампы, вставленные в рамы. На поставцах и полках, висевших по стенам, расставлены были бокалы, чарки, шандалы с фигурами птиц и зверей или с красивой золотой резьбой. Для самого хозяина стояло в переднем углу палаты большое кресло, резное, с позолотой; кругом было несколько стульев с высокими спинками.
По обычаю, показавшиеся на пороге палаты служители ввели к боярину Симеона Полоцкого, который приоделся в монашескую рясу черного тонкого сукна, жалованного царем; высокий монашеский клобук увеличивал рост его; большой перламутровый крест, висевший на груди, скрашивал его мрачную одежду. Симеон Ситианович, стоя на пороге, поклонился боярину низким поклоном и, приближаясь ко встречавшему его боярину, наклонился вперед, уставив на него свой проницательный взгляд, будто желая угадать, о чем думает боярин, пригласив его к себе.
– Здоров ли, боярин Артамон Сергеевич? Время ныне так изменчиво, – значительно проговорил Симеон Ситианович.
– Желал бы побеседовать с тобой о многом, уважаемый отец Симеон, – ответил хозяин.
– Не о книгах одних?.. Угадал я?..
– Ты двадцать лет прожил в нашем царстве и ведаешь обо всем, что творится в нем.
– Долгая жизнь поучает, – ответил Симеон.
– Мы сядем здесь, – говорил хозяин, – и подождем наших помощников; монахи принесут вновь построенные книги. Отпустив их, скажу тебе все, что на душе у меня лежит тяжелым камнем.
– Все святые да помогут тебе! Я же – грешный и смертный человек и не всемогущ! – грустно произнес Симеон.
– Но царь и царевны уважают слова твои… – проговорил Артамон Сергеевич.
– Все в воле Господа! – сказал Симеон, спокойно расположившись для беседы на стуле с высокой резной спинкой и обратив глаза на расписной потолок палаты. Он спокойно прислонился к резной решетке стула, и слова полились у него, видимо услаждая собственный слух его. Симеон и писал, и говорил красно.
– Высоко над нами небеса, – говорил Симеон, как бы задумавшись, – и всегда ли может быстро проникнуть и достичь их молитва наша? Может ли вознестись она до третьего, самого высокого неба? Может ли защитить нас от клеветников и злобников? Не заградить им уста жезлом, как псам лающим! Буесловцы и козлища нечестивые!
Боярин слушал Симеона; ему так знакомо было его красноречие; он узнавал и выражения, и мысли, часто попадавшиеся в его книгах.
– Ты угадал, отец, о чем я думал говорить с тобой! Уповаю, что твои словеса, исполненные мудрости, смирят восставших на меня! – сказал боярин Матвеев.
– Ангел-хранитель не покинет тебя! Ведома Господу вся любовь твоя к свету книжному и желание внести учение в страну мрака и невежества! – говорил ученый монах.
– Но да идет ли мимо меня чаша страданий? Известно ли тебе что-нибудь о том?.. – спрашивал, содрогаясь, боярин.
– Антихрист сеет плевелы ненависти и во образе женском является, – вполголоса добавил Симеон Ситианович значительно. – Но венец веры поддержит и спасет тебя в страдании. Все здесь временно. Служат антихристу диаволы и полудиаволы в образах человеческих, и служит пол женский, тля! Но земля возродится в новом блеске, и цветы расцветут на радость.
– Да не на радость мне слова твои, отец: вижу, чуешь ты долю мою, что лежит предо мной, – прервал Симеона боярин Матвеев, сокрушенно склоняя голову свою на руку, облокотившуюся о стол. В глазах боярина стояли слезы; он думал о царице Наталье Кирилловне, его собственная судьба огорчала его не менее ее сиротства.
– Не обманывают тебя разум и зрение; но борьба и вера спасают нас, – проговорил Симеон.
Тронутый словами и звуками голоса монаха, боярин вслушивался в каждое его слово; но сам Симеон не мог заглянуть в далекое будущее, грозившее поглотить и потопить все доброе в смутах, поднятых накопившейся ненавистью и мелкими происками запертых в терем разнообразных сил и самолюбивых желаний, ради которых не жалели никого вокруг себя.
На пороге палаты появились помощники Симеона Полоцкого по исправлению книг церковных. То были монахи, переселившиеся в Москву из Киева еще со Славинецким; тут был и грек Арсений, исправлявший старые книги по греческим образцам и рукописям. С поклонами приблизились вошедшие монахи.
– Вот книги, вновь отпечатанные: здесь и переводы святых отцов, составленные Епифанием Славинецким, – сказал монах Чудовского монастыря Евфимий, глубокий поклонник Славинецкого. Монах разложил на лавке у стены большую кипу принесенных им книг; другие вошедшие с ним также раскладывали свою ношу, чтобы Симеон мог обозреть все их.
– Да! Епифаний Славинецкий был один из первых прибывших к нам из монастыря Киевского братства. И жил он далеко, на краю Москвы, у Воробьевых гор, в Андреевском Преображенском монастыре. При нем было наше первое училище, – задумчиво вспомнил боярин Матвеев.
– Пришлось ему на долю поучать у нас на Москве, а сам учился в иностранных землях! – говорил монах Чудовского монастыря Евфимий. – Трудился он много и в нашем Чудовском монастыре и в достойный вид привел наше богослужение. Он указал нам, как должны мы совершать все при богослужении, во славу Господа. Большую часть жизни провел он в нашей обители и похоронен у нас, – закончил монах[9 - Епифаний Славинецкий был иеромонахом Братского киевского монастыря и прислан был в Москву стараниями боярина Ртищева, радевшего об исправлении книг и об учреждении книгопечатни в России. Епифаний прожил 26 лет в Москве и погребен в Чудовом монастыре.].
– Да, конечно, великий труженик и ученый человек был Епифаний, но любил скрываться от мира и не открывал своих познаний, – сказал Симеон Полоцкий.