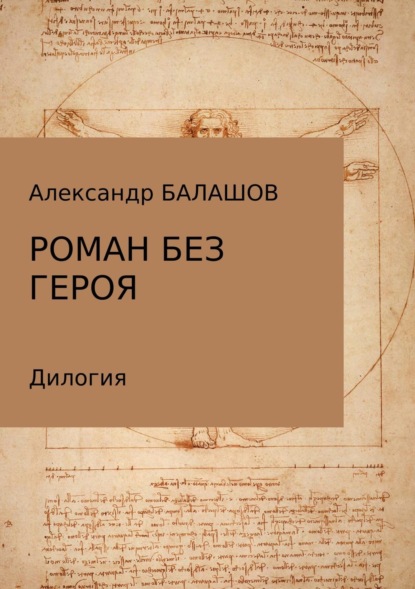По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Роман без героя
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Волохов помолчал и сказал со вздохом:
– Слова «лицо» и «личность», Сашенька, – из одного корня происходят. Личность Владимира Игоревича Волохова, сотрудника нашей славной полиции, моего с любимого сына существует совершенно не виртуально, а реально. Зачем сейчас, когда он жив и здоров, тьфу, тьфу, ему двойник? Дай Бог, чтобы этот двойник ему ещё лет сто, а то и больше, не пригодился…
– А кому тогда? – растерялся Чуркин.
– Кого в ловушку поймаю, того лицо и вырежем из этой маски бессмертия, грубой заготовки будущего лица будущей личности живого, я подчёркиваю, Шурик, живого человека, а не киборга, как ты, думаю, уже давно определил роль в моём эксперименте этому великолепному манекену. А что «Вовкин клон» – точная копия тело сына, так это ничего не значит. Личностью делает не тело.
– Мозг! – вставил Чуркин.
– Атман, – мягко поправил своего молодого коллегу профессор. – Ты же вспомнил Брахмана в своём стишке… Вспомни его слова. Или зря я упросил тогда Бергмана взять тебя в славное королевство Непал?
– Конечно, Атман, – поспешил исправиться молодой учёный. – Знаете, профессор, мысль как бы сама, независимо от меня постоянно съезжает в накатанную колею…
– Колея должна быть своей, – похлопал старик Чуркина по плечу. – По своей колее, как почти по целине, ещё трудно ехать, но плодотворнее для потомков.
– Как это – плодотворнее? – не понял молодой учёный.
– По следу первопроходца обязательно пойдёт другой человек, потом ещё кто-нибудь, потом десяток, потом сотни – и вот она, накатанная дорожка. А ты тихо, без шума и пыли сходишь с укатанного большака, и снова пробиваешь в целине свою колею – и так до последнего своего вздоха. До гробовой, сынок, доски. Только такого человека я могу назвать настоящим учёным.
… За стенкой, в зале, послышался горячий шёпот и звуки поцелуев.
Игорь Васильевич улыбнулся.
– Боже! Смилуйся над старым одиноким дураком, – прошептал он, блаженно улыбаясь. – Пошли мне внука или маленькую девочку с белым бантом, внучку, которую я мог бы носить на руках, баюкая, укладывать её в постель, кормить с ложки кашей, вытирая её милую рожицу, измазанную жидкой манкой… Дай мне, Боже, Любви… Только её, Любви. Хотя бы малюсенькую частичку твоей Большой Любви, без которой не бывает настоящей, а не виртуальной жизни. Независимо от её начала и её конца. Я честно тащил свой неподъёмный воз в гору… И вот только сейчас, под конец жизни, достигну первой настоящей вершины, к которой шёл, карабкаясь по горам, ложным пикам Победы и непролазным хребтам с первого курса института, падая в пропасти, погибая и упорно возрождаясь снова и снова… Думаю, я заслужил это. Ведь я не нарушил главного твоего завета – я не преумножил вселенской скорби своими изобретениями. И никогда не умножу её впредь… С твоей, конечно, помощью. Аминь.
По окну застучали капли дождя. Потом зарница далёкой грозы, обошедшей город с северо-запада, осветила профессорский кабинет холодным, каким-то светодиодным светом. И зашумел летней листвой на берёзе, посаженной Ниной, летний московский ливень.
– Внучку обязательно назовём Ниной, – как уже решённый вопрос, сказал сам себе засыпающий старый учёный. Улыбка ещё долго не сходила с его плотно сжатых сухих и почти бескровных губ.
11.
Мария росла и воспитывалась в простой русской семье. Отец работал водителем автобуса, а мама, закончив библиотечный техникум, была библиотекарем центральной библиотечной системы города Рыльска. Именно мама привила единственной дочери любовь к книге и, как могла, поощряла первые литературные опыты Маши ещё в школьные годы.
Литературные опусы дочери отцу не нравились. Точнее, не то чтобы не нравились, он не считал сочинительство вообще серьёзным занятием, которым можно зарабатывать на хлеб.
– Блажь это, доченька, – читая Машины рассказы и миниатюры, говорил ей отец. – Я знаю в нашем Рыльске одного писателя, он раньше со мной до Курска ездил, так он все свои книжки за свой счёт издаёт. Ты представляешь, не ему платят за труд, а он должен заплатить, чтобы его писанина дошла до читателя. Ну, не сволочная ли работёнка?
Маша слушала отца и пописывала свои нехитрые рассказы про любовь и счастье. Один, который в редакции переименовали без её ведома, претенциозно назвав «История одной любви», опубликовала местная газета. И ничего в городке не случилось. Никто не обрывал Машин телефон, не судачил об этом событии в магазине, на рынке. Только одноклассник Колька Шкардинов по прозвищу Шкарда, зажав её в раздевалке, сказал:
– Машк, а это ты тиснула писулю о любви в нашей брехаловке?
Мария, ожидавшая слов признания её таланта, обиделась, но на предложение Шкарды сходить в кино отказаться не могла. В кинотеатре повторно шёл «Титаник», который она давно мечтала посмотреть. Колька взял билеты на последний ряд и весь сеанс нахально лез левой рукой ей в колготки, а правой бросал себе в рот жареную кукурузу, попкорн, который в ярких кулёчках продавали в фойе кинотеатра дороже входных билетов. А потом Шкарда, не дожидаясь пока у Маши пройдёт романтический туман, навеянный фильмом, пригласил её на Сейм, в старый ржавый катерок, стоявший уже года три на бережку, на своём последнем причале. Там она и потеряла девственность. Как это произошло, Мария не смогла объяснить и сама себе. Когда поняла, что Колька с ней сделал, слёзы сами покатились по пухлым белым щекам, отчего во рту стало и солёно, и горько.
– Ну, Машк, – сказал Колька, – ты даёшь!.. В десятый перешла, а с пацанами, оказывается, ни разочка!..
Она выскочила из катерка и опрометью бросилась к дому.
– Дура! – в догон пустил ей в спину Шкарда. – Заранее предупреждать в таких случаях надо, писательница с ударением на «и»!..
Закончив школу, Маша поехала в большой город, за 800 километров от дома и с большим запасом поступила в университет, на факультет журналистики. В универе тоже случилось не очень счастливое любовное приключение, закончившееся слезами и криминальным абортом, который, слава Богу, прошёл без особых последствий для здоровья девушки.
Владимир Волохов был её третьим в жизни мужчиной и первой настоящей любовью. Помыкавшись по подхалимным, насквозь льстивым (по отношению к власти, учредителю или хозяину – какая разница?) газеткам с тающими на глазах тиражами, она устала льстить и лицемерить, сочиняя заказные хвалебные оды в прозе. Зарплата – жалкие гроши, удовлетворения – ноль, «одно сплошное раздражение», как она сама определяла тогдашнее своё состояние души, от набивших оскомину штампов и пустоты в петитных строчках и между ними.
– Поезжай-ка, Маша, в Москву, – сказал как-то отец, видя очередное страдание дочери над чистым листом бумаги. – Там и работёнку по себе найдёшь и, даст Бог, замуж выйдешь. А тут кто остался? Одни алкаши безработные.
И впервые она послушалась своего батю, и не пожалела о своём послушании. Именно здесь, сменив пару мест службы, по объявлению на увешенной фотографиями бандитских рож доске с фанерными буквами, неаккуратно выпиленными лобзиком «Их разыскивает милиция», она нашла место специалиста по связям с общественностью. И уже в первый день работы увидела загорелого атлета, настоящего мачо (правда, без трёхдневной небритости) так похожего на «мужчину её мечты» – какого-то известного в прошлом актёра. (Позже Машенька вспомнит имя этого киноактёра, когда с сыном, рождённом от Володи, посмотрит в кинотеатре старый добрый фильм, снятый по сказке А.С.Пушкина. Одну из ролей в нём играл Олег Видов, точная Володина копия).
Владимир был ярким блондином (в мать), с синими глубоко посаженными глазами. В тот день их взгляды встретились. И у каждого ёкнуло под сердцем. «Вот – он!», – сказало ей её сердце. «Это – она!», – гулко застучало сердце Владимира.
Володя, – она это точно помнила, – тогда промямлил, почему-то краснея:
– Извините, меня к вам начальник направил…Ввести, так сказать, в дело…
– Вводите, – разрешила она и повторила его же фразу: – вводите, так сказать, в дело…
С этого самого первого дня её работы они уже никогда не расставались. В отделе сперва переглядывались, подшучивая над старым холостяком старшим лейтенантом Волоховым, а потом поняли: грех смеяться, если это – любовь. И не просто любовь, а как легко и без пересудов поверил весь личный состав выражению начальника, «Любовь с большой буквы».
Мария, устраиваясь на диване, в большой комнате, посредине которой, как памятник перед открытием, задрапированный с ног до пят, стоял какой-то манекен, спросила:
– Вов, а что это за фигура в центре?
– А-а, – протянул неопределённо Владимир. – Манекен… Отец на нём собирается отрабатывать биотоки, которые будет этой кукле подавать головной компьютер.
– Как интересно-о-о!.. – повернулась она на живот. В Маше просыпалось профессиональное любопытство.
– А можно на него взглянуть хотя бы в полглазика? – спросила девушка.
– Манекен как манекен, – отмахнулся от Машиной просьбы Володя. – Завтра я его к отцу в кабинет перетащу.
– А странный он, прости за откровенность…
– Кто, манекен?
– Папа твой. И манекен – тоже.
– Этому телу, – кивнул Владимир в сторону своего синтетического клона, – сноса не будет. Нанолатекс. Чуд-материал будущего. Представляешь, его состав папин помощник, аспирант Саша Чуркин изобрёл. Изобрести изобрёл, а запатентовать никак не может – бюрократия сильнее любой гениальности.
– А почему твой Чуркин какую-то болванку, похожую на собачью голову, на свой нанолатексный манекен посадил?
– Это не собачья голова. Это заготовка. Манекен не доделан.
Маша рассмеялась:
– А может, это гений Чуркина недоделан?
– У Чуркина всё доделано. Я с ним знаком.
– А отец твой, он признанный учёный или нет?