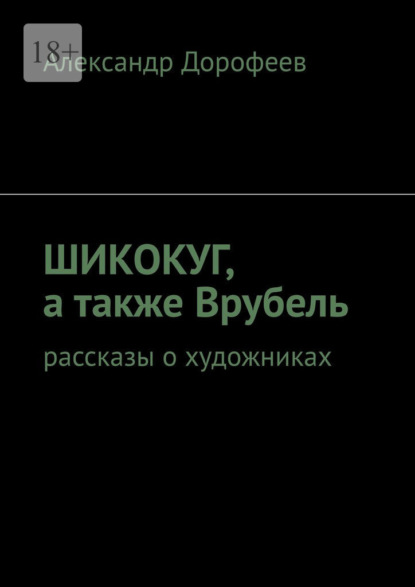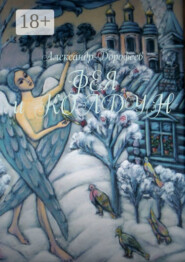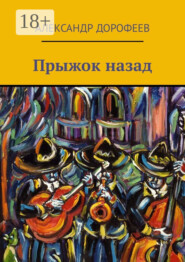По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
ШиКоКуГ, а также Врубель. Рассказы о художниках
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Профессора разглядывали рисунки, указывая друг другу на их достоинства:
«Как правдиво и убедительно охарактеризован вот этот обломок поваленного дерева с его змеевидно извивающимися мёртвыми корнями! Какова наблюдательность в овладении растительной формой!»
«А эта подчёркнутая мрачность бегущих по небу туч! Чрезвычайно удачно передан типичный вид угрюмого северного неба».
«Бесспорно, пейзаж Шишкина обладает и определенным сюжетным содержанием. Невольно начинаешь думать о борьбе со стихией, подмечаешь признаки приближения бури, готовность деревьев противостоять её натиску, и, как возможный трагический финал этой схватки, видишь остатки древесного ствола, погибшего в извечном споре прибрежного леса с водной стихией»…
Конечно, такие оценки, которые ныне могут показаться, по меньшей мере, странными, ободряли Ивана Ивановича. Он работает больше прежнего. Зимой без устали копирует в Эрмитаже картины старых мастеров. Изучает технику офорта и литографии. А каждое лето они втроём – Шишкин с «Джогине» – отправляются на остров Валаам.
В ту пору этот безлюдный и угрюмый северный остров – излюбленное место работы молодых художников. На дальние этюды выезжали на лодке. Мольберты мастерили на местах из подручных материалов, то есть подбирали и связывали особенно корявые ветки, которые могли удержать подрамники с холстами. Неоконченные полотна прятали в расщелинах скал, ничуть не опасаясь пропажи. Нередко и сами ночевали в глухом лесу. Дикая природа как-то освобождала, раскрепощала и способствовала творческому подъёму.
Правда, здешняя погода их не баловала. День изо дня прегадкая стояла – ветры и дожди страшные. Когда работать было невозможно, они ходили смотреть на волны, которые со зверской силой хлестали в прибрежные скалы. На их глазах частенько заваливались огромные деревья. Душа замирала от такого разгула и буйства стихии. Особенно жалел Иван Иванович пару древних клёнов, рухнувших с утёса под напором ветра и поломавших молодую поросль.
Он всей душой любил деревья, и даже тени, роняемые ими на траву. «Тень, – говорил Шишкин, – душа дерева!»
Иван Иванович кропотливо изучал анатомию дерева, его физиономию и характер. В его картинах, этюдах, рисунках – познавательный, буквально научно-исследовательский подход к природе. Хотя некоторые считали, что Шишкин впадает в протокольность, мертвящую сухость и натурализм. Эти обвинения преследовали его практически всю жизнь.
Но, так или иначе, а всех своих сверстников в Академии Шишкин затмил совершенно. Профессора из академического Совета говорили, что таких блестящих рисунков они ещё не видали. На каждом экзамене Иван Иванович удостаивался медали – серебряной или золотой.
Медали вручали в торжественной обстановке. Награждённые должны были являться на церемонию непременно во фраках, шляпах и белых перчатках. Но Шишкин, как мог, избегал этих официальных ритуалов. Якобы его возмущали все эти условности. Но, возможно, просто смущался. Во всяком случае, свои медали он скромно, по-будничному забирал из конторы.
Вообще-то модный во все времена скепсис разночинцев по отношению к высшему свету не миновал Шишкина. Его раздражает «цвет петербургского общества»: «… такая всё дрянь, чушь и пошлость, и на эту-то пошлую катавасию стекается пешком и в экипажах почтеннейшая публика, так называемая высшая, чтобы убить часть своего скучного и праздного времени и тут же поглазеть, как веселится публика низшая»…
Вероятно, Иван Иванович удовлетворял чувство гражданственности, высказываясь пренебрежительно и насмешливо о чиновниках и военных, – «явятся… треуголки, каски, кокарды и тому подобная дрянь делать визиты… В какое хотите время дня, вы ежеминутно встречаете или пузатого генерала, или жердилу-офицера, или крючком согнутого чиновника, – эти личности просто бесчисленны, можно подумать, что весь Петербург населён ими, этими животными».
Подобное весьма пустое фрондёрство было распространено в ту пору.
Основная задача просвещённого, передового человека в те годы – сжиться с русскими вопросами, заинтересоваться судьбой всего общества. Короче говоря, художник должен служить общественным интересам!
Часто это служение понималось, как некая обязанность язвительно подтрунивать над всеми практически сторонами российской жизни.
О ком только не говорили едко и с насмешкой. Писатели неминуемо именовались «писаками» или «бумагомарателями». Художники – от слова «худо», «мазилки» и «маляры». Врачи – непременно «докторишки» или «лекаришки». Актёры – конечно, «шуты», «фигляры», а в лучшем случае, «лицедеи» и «комедианты».
Впрочем, Шишкина, надо думать, куда больше занимала собственная живопись, нежели общественно-политическая ситуация в стране. В его картинах трудно увидеть отблески, например, Крымской или Кавказской войн, которые вела тогда Россия.
В 1858 году работы Шишкина отправили на выставку в Москву, где их неожиданно купили – по пятьдесят рублей за лист. В те времена это значительная сумма. Иван Иванович, которому уже было двадцать шесть лет, впервые заработал серьёзные деньги профессией художника.
Через два года на заключительный экзамен Шишкин представил два пейзажа «Местность Кукко», написанных по эскизам, сделанным на острове Валаам. За них Иван Иванович получил золотую медаль и право на трёхгодичную заграничную командировку.
И в этот раз Шишкин отказался получать медаль на торжественном акте, хотя сам конференц-секретарь Академии Ф. Львов приезжал к нему на квартиру и уговаривал.
Узнав об успехах своего ученика, Аполлон Мокрицкий восторженно пишет в Петербург:
«Вы достигли желаемой цели. Ваши труды и старание награждены. Любовь Ваша к искусству доставила Вам золотой ключ ко дверям рая художников. Теперь смело и бестрепетно идите к золотым вратам будущего Вашего счастья! Они откроются перед Вами, и в туманной дали, в прозрачно-лиловом тумане Вы узрите уготованный для вас лавровый венец славы. Но, друг мой, не ослепляйтесь его лучезарным сиянием и не спешите овладеть им, пусть он будет прекрасной целью всей Вашей жизни: рано пожатые лавры скоро увянут на пламенном челе»…
Надо признать, что на картинах Шишкина, особенно в ту пору, туманных далей и впомине не наблюдалось – всё предельно чётко и графично. Никакое лучезарное сияние не ослепляет Ивана Ивановича, да и медали уже не радуют. Он чувствует несовершенство своих работ. Угнетает его, как он сам говорит, «тяжеловатость и грубость коры, которую при всём усилии не может сбросить». Такое впечатление, что Шишкин ощущает себя столетней северной сосной или елью.
И тогда Аполлон Мокрицкий, поклонник средиземноморских красот, советует ему тотчас ехать в Италию – мол, «эта красавица примет и своими чарами уврачует недуг, порождённый Севером».
Вообще немало дельных советов исходило от первого учителя. Таинственность и обворожительность в картине, наставлял он, дают пищу воображению и прибавляют интересу. Художник без маленького кокетства – не поэт.
Да где же, спрашивается, раздобыть кокетство, когда его отродясь у Ивана Ивановича не было? Он прост и прям, как та же сосна корабельная. Более всего его заботит правдивая и тщательная передача предметности мира. Ему хочется, чтобы вся русская природа, во всех деталях, глядела с холстов отечественных художников.
По окончании Академии Иван Иванович не спешит за границу. Зиму он проводит в Петербурге, работая над литографиями к «Русскому художественному альбому». А весной долго колеблется, не зная, куда именно отправиться, – собирается и в Крым, и в экспедицию по Волге и Каспийскому морю.
Однако передумал, и уже 21 мая приехал в Елабугу, где не был целых пять лет.
Шишкин настолько изменился, возмужал, что домашние с трудом узнали его. А пуще прочего поразило их «Открытое предписание» от земского исправника, полученное их сыном и братом в июне месяце: «…художнику Императорской Академии Художеств в том, что будучи командирован начальством для снимков видов и местностей на реках Волге и Каме и ея притокам, я предписываю полицейским служителям оказывать ему содействие как в устранении праздного и невежественного любопытства, так и в ограждении от помех со стороны любопытных. Во время работы оказывать г. Шишкину законное со стороны полиции содействие».
«Просто какой-то ревизор!» – удивляется маменька Дарья Романовна. «Ревизор природы», – кивает папенька Иван Васильевич.
Но если точнее, то Шишкин ревизует, или подвергает пересмотру, все окружающие деревья. Покинув Елабугу, путешествует по Каме, неустанно зарисовывая в альбом виды окрестностей и ведя путевой дневник, где можно прочитать такие заметки: «У деревни Ватези дорога идёт по самому берегу и у дороги разбросаны дивные осокори, перемешанные с тополем, ивой и кустарником; дальше идут дубы; крутой берег каменистый с обрывами – место, по-моему, самое замечательное в отношении живописности и сочетания разнородных видов деревьев; для пейзажиста следует жить в деревне Ватези».
Шишкин побывал Сарапуле, где проживала его старшая сестра Ольга Ивановна, и остановился в Казани, в окрестностях которой пишет много этюдов. Здесь он
знакомится с художником В.И.Якоби, и они решают отправиться за границу вместе.
Казань Шишкин покидает только в конце октября. Сначала задерживается в Москве, затем в Петербурге. Отмечает своё тридцатилетие, и лишь в апреле 1862 года с Якоби и таинственной госпожой Т уезжает за рубеж.
За три дня до отъезда он получил заказ от коллекционера Н.Д.Быкова на пейзаж с итальянским мотивом. Казалось бы, вот и надо ехать прямо на юг Европы. Последние десять лет Шишкин только и слышал о тамошних красотах. Может, именно поэтому, из какого-то упрямства, чтобы, так сказать, не ходить проторёнными дорогами, направился с компанией в Германию.
Берлинская Академия показалась ему совсем отсталой, а галерея – сущая дрянь! Зато в Дрездене на постоянной выставке хоть что-то ему приглянулось, а именно картина некоего Гартмана «Лошади на водопое».
«Пейзаж очень хорош, – пишет Иван Иванович, – Но особенно лошади написаны и нарисованы хорошо; я редко видел столько правды и притом техника очень проста».
Тут же, впрочем, обругал полотно «Бегство в Египет» – «дичь страшная, заходящее солнце, как плешь бритого татарина, свету в нём нисколько, а картина вся красная».
Вообще Шишкин обнаружил, что в России художники куда сильней – «Мы, говоря, по невинной скромности, себя упрекаем, что писать не умеем или пишем грубо, безвкусно и не так, как за границей, но, право, сколько мы видели здесь… – у нас гораздо лучше…»
Западная живопись кажется Шишкину чрезмерно лёгкой, пустой и бессодержательной. В России, бесспорно, всё более значительное, интересное, включая и саму природу.
А на немецкую, право, и смотреть тошно – «пейзаж слишком непривлекателен и почти до омерзения расчищен».
В Германии они пробыли пару месяцев, и уже в начале июля переехали в Чехию, где многое пришлось по душе, поскольку хоть отчасти напоминало отчизну.
В те годы эталоном пейзажной живописи считался швейцарский художник А. Калам, которого ставили рядом с Рейсдалем. Критики возвели его на пьедестал. Во всех европейских Академиях ровнялись именно на него. Столько последователей и подражателей было тогда у Калама, что существовал термин «окаламиться». Но, увы! даже Калам, казавшийся издали, из России, интересным художником, вблизи не произвёл большого впечатления.
Осенью Шишкин остановился, наконец, в Мюнхене и снял мастерскую. Пытался начать работать, однако почему-то нервничал и не мог сосредоточиться. Вся зима прошла у него бездарно, всё не ладилось в «неметчине». Мюнхенские художники ему тоже не понравились – гармоничных картин он не увидел. Шишкин сокрушается – «Чёрт знает, зачем я здесь…, отчего я не в России, я её так люблю…»
Весну и лето следующего года Шишкин проводит в горах Швейцарии, но и там работа не идёт – написал всего несколько этюдов.
В сентябре он приезжает в Цюрих, где решает заниматься в мастерской анималиста и пейзажиста Рудольфа Колера, автора известной картины «Бык, ворвавшийся на луг».
«Кто хочет учиться животных писать, то поезжай прямо в Цюрих к Колеру – прелесть, я до сих пор не видывал, и не думал, чтобы так можно писать коров и овец, – признаётся Иван Иванович, – На днях думаем писать с натуры корову – вот уже был месяц, как мы у Колера, а сделали почти ничего, строг очень он к работе. Да и нашему брату пейзажисту есть, чему поучиться – такие, брат, этюды, что ахти».
Хоть что-то, слава Богу, понравилось Шишкину вне пределов России. Из Цюриха он даже отправляет в Академию художеств прошение о продлении срока заграничной командировки. В Швейцарии Иван Иванович пробыл в общей сложности год, навестив ещё Базель и Женеву. Он написал 12 этюдов и 4 картины, три из которых экспонировались на академической выставке в Петербурге.
В конце весны 1864 года Шишкин переезжает в Дюссельдорф. Вместе с приятелями из Академии работает под городом в Тевтобургском лесу. Его рисунки пером выставляются в местном музее рядом с работами первых мастеров Европы, которым, как все говорили, Шишкин «утёр нос».