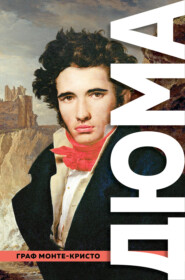По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Три мушкетера
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Но, господин комиссар, – сказал он хладнокровно, – поверьте, я более всякого другого ценю несравненные достоинства его высокопреосвященства, под управлением коего мы имеем честь состоять.
– В самом деле? – спросил комиссар с видом сомнения. – Но если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?
– Каким образом я в неё попал или, вернее, за что я в неё попал, – отвечал Бонасье, – это мне совершенно невозможно вам сказать, потому что я сам этого не знаю. Но уж, во всяком случае, не за то, что действовал, по крайней мере заведомо, против господина кардинала.
– Вы, однако, совершили же какое-либо преступление, потому что обвиняетесь в государственной измене?
– В государственной измене? – вскричал испуганный Бонасье. – В государственной измене? Но как же это может быть, чтобы бедный лавочник, который терпеть не может гугенотов и ненавидит испанцев, был обвинён в государственной измене?! Подумайте сами, это по существу своему совершенно невозможно.
– Господин Бонасье, – сказал комиссар, посмотрев на обвиняемого так, как если бы его маленькие глазки имели способность читать в глубине души, – господин Бонасье, у вас есть жена?
– Да, сударь, – отвечал трепещущий купец, чувствуя, что с этого момента дела его начнут запутываться, – то есть у меня была жена.
– То есть как так у вас была жена? А что вы с ней сделали, если у вас её больше нет?
– У меня её похитили.
– Похитили? – сказал комиссар. – А!
По этому «А!» Бонасье понял, что дело запутывается всё больше.
– У вас её похитили? – повторил комиссар. – А знаете ли вы человека, который её похитил?
– Я полагаю, что знаю его.
– Кто он таков?
– Имейте в виду, что я ничего не утверждаю, господин комиссар, а только подозреваю.
– Кого вы подозреваете? Смотрите, отвечайте откровенно!
Бонасье был в величайшем замешательстве: всё ли сказать или от всего отпереться? Если он станет от всего отпираться, могут думать, что он знает слишком много, чтобы признаться в этом, сказав всё, он докажет свою добрую волю. Он решил сказать всё.
– Я подозреваю высокого смуглого мужчину благородной наружности, имеющего вид вельможи; он несколько раз следил за нами, как мне казалось, когда я поджидал жену у ворот Лувра, чтобы проводить её домой.
Комиссар, казалось, почувствовал некоторое беспокойство.
– А имя его? – сказал он.
– Об имени его я понятия не имею; но если я когда-либо его встречу, то узнаю сию же минуту, ручаюсь вам, среди тысячи людей.
Чело комиссара вновь нахмурилось.
– Вы бы его узнали среди тысячи людей, говорите вы? – переспросил он.
– То есть, – сказал Бонасье, заметив, что он избрал неверный путь, – то есть…
– Вы ответили, что узнали бы его, – сказал комиссар. – Хорошо, на сегодня довольно; прежде чем мы пойдём далее, надобно будет кое-кого предуведомить, что вы знаете похитителя вашей жены.
– Но я вам не говорил, что я его знаю! – вскричал Бонасье в отчаянии. – Наоборот, я вам сказал…
– Уведите арестованного, – обратился комиссар к стражникам.
– А куда отвести его? – спросил секретарь.
– В камеру.
– В какую?
– О боже мой, в любую, лишь бы она накрепко запиралась, – отвечал комиссар с бесстрастием, страшно напугавшим бедного Бонасье.
«Увы! Увы! – сказал он себе. – Несчастье обрушилось на мою голову: жена моя, должно быть, совершила какое-нибудь ужасное преступление, меня считают её сообщником и накажут вместе с ней, она, верно, проговорилась, созналась в том, что всё мне рассказала, – женщины так слабы! Камера! Любая! Всё ясно! Ночь коротка, а завтра на плаху, на виселицу! Бог мой, бог мой, сжалься надо мной!»
Не слушая стенаний Бонасье, стенаний, к которым они, впрочем, давно уже привыкли, караульные подхватили арестанта под руки и увели. Комиссар между тем торопливо писал письмо, которое секретарь ожидал в стороне.
Бонасье не смыкал глаз не потому, что темница была ему слишком неприятна, но потому, что волнение его было слишком велико. Всю ночь он просидел на скамейке, вздрагивая от малейшего шума, а когда первые лучи солнца проникли в его камеру, заря показалась ему зловещей.
Вдруг он услышал, что отодвигают засов, и в ужасе вскочил; он подумал, что за ним пришли, чтобы отвести его на эшафот; и когда, вместо ожидаемого им палача, он увидел перед собой комиссара и секретаря, с которыми имел дело накануне, он чуть не бросился им на шею.
– Со вчерашнего вечера дело ваше очень осложнилось, любезнейший, – сказал ему комиссар, – и я вам советую сказать всю правду; одно ваше раскаяние может смягчить гнев кардинала.
– Но я готов сказать вам всё, что знаю. Спрашивайте, сделайте одолжение.
– Прежде всего: где ваша жена?
– Да я же вам сказал, что её похитили.
– Но в пять часов пополудни она благодаря вам сбежала!
– Жена моя сбежала! – вскричал Бонасье. – О несчастная! Господин комиссар, если она и сбежала, то я в том не виноват, клянусь вам.
– Зачем же вы ходили к д’Артаньяну, вашему соседу, с которым вы в этот день имели продолжительный разговор?
– Ах да, господин комиссар, это правда, и я виноват; я был у господина д’Артаньяна.
– Какова была цель вашего посещения?
– Я просил его помочь мне отыскать мою жену: я полагал, что имею право требовать её назад. По-видимому, я ошибся и прошу извинить меня в том.
– А что вам отвечал господин д’Артаньян?
– Он обещал мне свою помощь; но я вскоре убедился, что он меня обманывал.
– Вы обманываете правосудие! Господин д’Артаньян заключил с вами уговор и в силу этого уговора прогнал полицейских, задержавших вашу жену, и укрыл её от преследования.
– Господин д’Артаньян увёз мою жену? Что такое вы говорите?
– К счастью, д’Артаньян в наших руках и вам дадут очную ставку с ним.
– В самом деле? – спросил комиссар с видом сомнения. – Но если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию?
– Каким образом я в неё попал или, вернее, за что я в неё попал, – отвечал Бонасье, – это мне совершенно невозможно вам сказать, потому что я сам этого не знаю. Но уж, во всяком случае, не за то, что действовал, по крайней мере заведомо, против господина кардинала.
– Вы, однако, совершили же какое-либо преступление, потому что обвиняетесь в государственной измене?
– В государственной измене? – вскричал испуганный Бонасье. – В государственной измене? Но как же это может быть, чтобы бедный лавочник, который терпеть не может гугенотов и ненавидит испанцев, был обвинён в государственной измене?! Подумайте сами, это по существу своему совершенно невозможно.
– Господин Бонасье, – сказал комиссар, посмотрев на обвиняемого так, как если бы его маленькие глазки имели способность читать в глубине души, – господин Бонасье, у вас есть жена?
– Да, сударь, – отвечал трепещущий купец, чувствуя, что с этого момента дела его начнут запутываться, – то есть у меня была жена.
– То есть как так у вас была жена? А что вы с ней сделали, если у вас её больше нет?
– У меня её похитили.
– Похитили? – сказал комиссар. – А!
По этому «А!» Бонасье понял, что дело запутывается всё больше.
– У вас её похитили? – повторил комиссар. – А знаете ли вы человека, который её похитил?
– Я полагаю, что знаю его.
– Кто он таков?
– Имейте в виду, что я ничего не утверждаю, господин комиссар, а только подозреваю.
– Кого вы подозреваете? Смотрите, отвечайте откровенно!
Бонасье был в величайшем замешательстве: всё ли сказать или от всего отпереться? Если он станет от всего отпираться, могут думать, что он знает слишком много, чтобы признаться в этом, сказав всё, он докажет свою добрую волю. Он решил сказать всё.
– Я подозреваю высокого смуглого мужчину благородной наружности, имеющего вид вельможи; он несколько раз следил за нами, как мне казалось, когда я поджидал жену у ворот Лувра, чтобы проводить её домой.
Комиссар, казалось, почувствовал некоторое беспокойство.
– А имя его? – сказал он.
– Об имени его я понятия не имею; но если я когда-либо его встречу, то узнаю сию же минуту, ручаюсь вам, среди тысячи людей.
Чело комиссара вновь нахмурилось.
– Вы бы его узнали среди тысячи людей, говорите вы? – переспросил он.
– То есть, – сказал Бонасье, заметив, что он избрал неверный путь, – то есть…
– Вы ответили, что узнали бы его, – сказал комиссар. – Хорошо, на сегодня довольно; прежде чем мы пойдём далее, надобно будет кое-кого предуведомить, что вы знаете похитителя вашей жены.
– Но я вам не говорил, что я его знаю! – вскричал Бонасье в отчаянии. – Наоборот, я вам сказал…
– Уведите арестованного, – обратился комиссар к стражникам.
– А куда отвести его? – спросил секретарь.
– В камеру.
– В какую?
– О боже мой, в любую, лишь бы она накрепко запиралась, – отвечал комиссар с бесстрастием, страшно напугавшим бедного Бонасье.
«Увы! Увы! – сказал он себе. – Несчастье обрушилось на мою голову: жена моя, должно быть, совершила какое-нибудь ужасное преступление, меня считают её сообщником и накажут вместе с ней, она, верно, проговорилась, созналась в том, что всё мне рассказала, – женщины так слабы! Камера! Любая! Всё ясно! Ночь коротка, а завтра на плаху, на виселицу! Бог мой, бог мой, сжалься надо мной!»
Не слушая стенаний Бонасье, стенаний, к которым они, впрочем, давно уже привыкли, караульные подхватили арестанта под руки и увели. Комиссар между тем торопливо писал письмо, которое секретарь ожидал в стороне.
Бонасье не смыкал глаз не потому, что темница была ему слишком неприятна, но потому, что волнение его было слишком велико. Всю ночь он просидел на скамейке, вздрагивая от малейшего шума, а когда первые лучи солнца проникли в его камеру, заря показалась ему зловещей.
Вдруг он услышал, что отодвигают засов, и в ужасе вскочил; он подумал, что за ним пришли, чтобы отвести его на эшафот; и когда, вместо ожидаемого им палача, он увидел перед собой комиссара и секретаря, с которыми имел дело накануне, он чуть не бросился им на шею.
– Со вчерашнего вечера дело ваше очень осложнилось, любезнейший, – сказал ему комиссар, – и я вам советую сказать всю правду; одно ваше раскаяние может смягчить гнев кардинала.
– Но я готов сказать вам всё, что знаю. Спрашивайте, сделайте одолжение.
– Прежде всего: где ваша жена?
– Да я же вам сказал, что её похитили.
– Но в пять часов пополудни она благодаря вам сбежала!
– Жена моя сбежала! – вскричал Бонасье. – О несчастная! Господин комиссар, если она и сбежала, то я в том не виноват, клянусь вам.
– Зачем же вы ходили к д’Артаньяну, вашему соседу, с которым вы в этот день имели продолжительный разговор?
– Ах да, господин комиссар, это правда, и я виноват; я был у господина д’Артаньяна.
– Какова была цель вашего посещения?
– Я просил его помочь мне отыскать мою жену: я полагал, что имею право требовать её назад. По-видимому, я ошибся и прошу извинить меня в том.
– А что вам отвечал господин д’Артаньян?
– Он обещал мне свою помощь; но я вскоре убедился, что он меня обманывал.
– Вы обманываете правосудие! Господин д’Артаньян заключил с вами уговор и в силу этого уговора прогнал полицейских, задержавших вашу жену, и укрыл её от преследования.
– Господин д’Артаньян увёз мою жену? Что такое вы говорите?
– К счастью, д’Артаньян в наших руках и вам дадут очную ставку с ним.