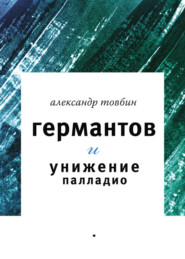По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С капиталистическим оскалом.
– Не доживу… рад, что перед маразматическим юбилеем слинять успею, не увижу всенародного торжества.
– Нас, задыхающихся, тебе не жалко бросать на произвол маразма? Толька, Толька, как ты можешь? – завопила Милка.
– Валерка в тюрьме, а ты… ты со спокойной совестью улетишь покорять Париж? – глотала слёзы Таточка.
– Я скорее оттуда смогу помочь, с «Хартией 77» поднимем бучу…
– Хорошо бы его узником совести…
– Попробуем… – Толька не мог не договорить, – тут как поможешь? Вот-вот соцстрою шестьдесят годочков стукнет, младенческий по историческим меркам возраст, а маразм крепчает и хоть бы хны, на крови взрастают сверхпрочные тупые цивилизации.
– Цивилизацию Майя скрепляли кровавые ритуалы, но погибла мгновенно, – хитро прищурился теоретик, – жертвенные храмы устояли, а людей словно поразила нейтронная бомба. Есть гипотеза одномоментного коллективного суицида. Вожди Майя, кровавые маньяки, чересчур чувствительные к сигналам будущего, поняли, что им конец и…
– Ну и когда конца нововизантийского нашего коммунизма ждать прикажешь, когда, – драчливо напрягся Гоша, – до восемьдесят четвёртого года доживёт? Или ещё и семидесятилетие с бурными восторгами справит?
– Пошатываясь, – закуривал теоретик.
Всё об одном и том же, о том же! И летом, у Художника, за грудки хватались. Ну и денёк тогда выдался, не подготавливал ли тот денёк к испытаниям второго июля? – завтрак с фонтанировавшим филологическими фантазиями Валеркой, да уж, «Судак Орли» под армянский коньячок в «Европейской», с утра пораньше, и – допрос у Остапа Степановича, и – ветер, пропахший корюшкой, ливень из чёрных туч, и – солнце, ливень и солнце, потом удар молнии – «Срывание одежд». И так же, как сейчас, Гошка раскричался, брызгал слюной – когда развалится, когда? И, прижимаясь, выспрашивала про каюк Милка. Ну и ну, теоретик-конфликтолог прямо-таки провидец! В прошлый раз с внутренне опустошённой перед гибелью Византией сравнивал, но сейчас-то, – забавлялся Соснин, – сейчас-то до чего эффектно – Майя! Хотя это, наверное, самая хромая аналогия из возможных. У нас всё будет наоборот. Сакральная надстройка рухнет, а несгибаемый гомо советикус быстренько оклемается, обживёт руины. С жалостливым превосходством смотрел на Тольку, Гошку, по-большевистски неколебимых, предубеждённых – если бы они знали, что в главном теоретик не завирался!
Гена Алексеев, подперев рукой рыжевато-каштановую бороду, покалывал московского теоретика светло-голубыми глазами, молчал.
Нет, Геночка ничего хорошего не ждал. Как на похоронах Художника он назовёт трубу крематория с закопченным верхом? Пушкой, палящей в небесное царство?
– Ил, – тихо заговорил Художник, – помнишь, шли по Неве, был ледоход, плоские, как стекло, льдины на синей воде. Мы обсуждали фильм, английский актёр с пивной фамилией изумительно сыграл живописца-психа…
– Помню, «Устами художника».
– Помнишь, борт старого корабля, изъеденный ржавчиной, в мазках шпаклёвки, затёках краски? Хоть бери в раму. И тот псих, поражённый увиденным… тогда дошло, что дар куда шире мастерства, чтобы написать картину, её сначала надо увидеть.
– Художник – обязательно псих?
– Ну да, – усмехнулся, – благословлённый небом безумец залезает чёрт-те в какие дебри, чёрт-те что видит там, а зачем – и самому не ведомо. Но безумие совсем не обязательно внешнее, буйства – внутри.
– Для кого же буйства и сумасбродства, для кого?
– Для себя, для ублажения своих позывов. Рассылкой художественных продуктов по избранным адресам, оценив их, занимается Бог. Сумасбродства? – глянул с весёлой, не без ехидства, пристальностью. – Внутренние метания так и не поняты, не названы, – снова с неповторимой своей, сухой усмешечкой, – напропалую лепят паршивое слово «творчество»… Потом мы… Тёмные глаза на бледном лице горели. Или отблескивали жарким огнём? Как там, как там.
– Когда произносят слово «творчество», я хватаюсь за пистолет, – отозвался Шанский и захрустел солёным огурцом; у Шанского был отличный слух.
– Потом мы, – совсем тихо сказал Художник, – вернулись на факультет.
– И тащили литографский камень.
– Да, тот самый, крамольный.
«Хитроумно устроенный передатчик зашифрованных сообщений», ха-ха-ха, перебирал свои тяжеловесные формулы Соснин, ха-ха-ха, тень на плетень – «интелектуально-чувственный сейф, где спрятана тайна». Тайны искусства – это то, и только то, что умевшим видеть открывалось там, по ту сторону.
– Три тайны изводят художника, – между тем напоминал Шанский, – времени, смерти и самого искусства.
– А любви? – спросила Милка.
– С любовью всё более не менее ясно, – сказал Шанский, все засмеялись.
– Мы выпиваем, треплемся, а Валерку держат в тюряге, в цементной камере, – с самобичевания начал гуманистическую речь Гоша… под конец спросил, потупясь. – О чём, думаете, Валерка напишет, освободившись?
– Опять о будущем романа? – Таточка неуверенно подняла глаза.
– Конкретнее, о романе как тайне, – поправил Соснин, – собирательной тайне единств и противоположностей.
– Опять о тайне? Откуда ты знаешь?
– Неосторожно догадался, – попробовал отшутиться Соснин; сболтнул лишнее, кто тянул за язык?
– Нет, – горько усмехался Шанский, – когда откроются ворота темницы, Валерке будет не до имманентных романных тайн. Наш литературный шаман, накушавшись правды жизни, думаю, бросит мемуарный камень в нерукотворный памятник КГБ. С признательной надписью: «Жизнь как западня»; какой Толька самоуверенный, – забавлялся-сокрушался Соснин, – доволен собой, хотя проткнул пальцем небо.
Гоша, обиженно открыв рот, не успел опротестовать хлёсткий приговор Шанского, в котором Гоша уловил несправедливый приговор гуманизму.
Вбежал деловитый Бызов, всучил Шанскому большой коричневый конверт с научной статьёй и письмо к коллеге из Стенфорда.
– Как же шмон на таможне? – удивился было Соснин, но Шанский, конечно, не собирался дразнить дракона перед отлётом в свободный мир, Шанский пользовался услугами дипломатической почты, ему ещё ночью оставалось заскочить к секретарше французского консульства, одной из своих давних невест… да, все живы ещё, все, у Валерки – беда, но жив, да, все живы, а так тяжело видеть их, обречённых, да, Стенфордский университет; судьба вела Антошку к назначенному ему концу, он не свернёт… прочертилась на фоне стеллажа с глобусом и маленькой Нефертити решётчатая ограда колумбария в Сан Хосе, дочери Бызова в чёрных платьях, шляпах, медленно шли по гравийной дорожке вдоль газона с бордюром жёлтых цветов… поодаль – как на гравюре – чёрные разлапистые калифорнийские кипарисы.
Бызов покончил с делами, пожаловался, что впопыхах убегал, забыл табак, трубку, потом – к Таточке. – Как Валерка?
Таточка нервно одёрнула пушистую кофточку, повторила. – Зло зыркнули, но передачу взяли. Как вспомню, что и отца его в той же тюрьме угробили… – доставала сигарету.
– Давно к Валерке подбирались, участковый наведывался.
– Замели-таки перед юбилеем!
– Теперь вцепились мёртвой хваткой, не выпустят.
– Ну, что б они сдохли! – провозгласил Бызов.
– За них пили уже! Что толку…
– А за что пить, за что? – затрясла огненными патлами Милка, – Валерка в тюрьме, Тольку больше никогда не увидим, никогда.
– Не голоси, увидимся, обнимемся-расцелуемся, – утешал, не веря собственным словам, Шанский. А глянул на поникшего Соснина, так радостно вскочил с полной рюмкой. – Выпьем за жертву карательной психиатрии!
Но смеялись недолго.
Опять скорбели, как на поминках.
– Повсюду рожи, злобные рожи… – Таточка. По кругу?
– И болваны-вожди, тупые жестокие болваны… – Гошка. По кругу.