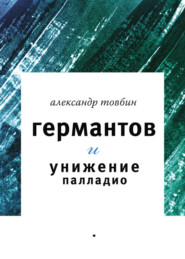По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он на террасе, провалился в ветхое, с отломанным подлокотником кресло; толстые алебастровые балясины в пятнах солнца, абрикосы на ветке. Но дед чем-то напуган… в руках раскрытая книга со страницей, приподнятой ветерком. Лысая яйцевидная голова втянута в плечи и чуть наклонена, и какие-то обречённые, как при взгляде в дуло, глаза, жалкая перекосившаяся улыбка недосказанности – он что-то предчувствовал, да пожалуй и знал, знал уже, хотел предупредить, но не успевал… и не мог! – на фото проявился предсмертный ужас.
Завеса лет проявляла главное?
перенос ужаса
Как тут было не испытать кошмар всеобщих смещений, ужас экзистенциальной растерянности, не впасть хотя бы ненадолго, всего на дольку секунды, растянутую больной фантазией, в безумие беззащитного одиночества.
Вырезая статичные кадры – станковая картина, та самая, чья сгущённая образность не отпускала глаз и внутри которой, затем и за которой он по милости Художника очутился, не сравнивалась ли им теперь с такими вещими кадрами, полными пугающей недосказанности? – так вот, вырезая статичные кадры-слайды из необратимо развёртывающейся ленты событий, всматриваясь в остановленное каждым изображением время, спрессовавшим разные времена, закольцовывая время воспринимавшим ответным чувством, Соснин уже не сомневался в том, что искусству, норовящему в высших своих порывах заглядывать за видимое, очевидное, ведома взаимная проницаемость прошлого, настоящего и будущего.
И уже не оставалось сомнений в том, что компоновала слайды ли, кадры, задавая их монтаж, взаимные наложения, не только текущая, но и грядущая жизнь, та жизнь, которая будет длиться после того как погаснет индивидуальное сознание, да-да, в творческом напряжении сознание способно заглянуть за… И как же далеко мог видеть пробивший головою тучу Соснин! А чем дальше видел, тем острей ощущал зачатую в сутолоке сознания и поощрённую временем двойную устремлённость воображаемого романа, чьи лейтмотивы влекли куда-то дальше, дальше, к зыбкой невыразимой границе ужаса – переступал её, но не знал сумеет ли перевести в слово увиденное – хотя оставаясь преданными кормящей направляющей памяти, те же романные лейтмотивы намекали не без ехидства, что глупо было ждать от будущего того, чего бы не было в прошлом.
безапелляционно (из текущих записей Соснина)
«Нет! Нет ни прошлого, ни будущего, есть реальность сознания, теснимого настоящим и иллюзорно расширяющегося усилиями памяти и фантазии.
Пусть время, этот великий безнаказанный расточитель всего, чем богата жизнь, облачается в абстрактную тогу неподкупного, не ведающего морали тотального ритмизатора-измерителя.
Пусть сознание, всегда индивидуальное, но неизменно отягощённое идеалами, моральными табу и определяемое, как на грех, бытием, лишь наедине с собой потешается над ползучей непротиворечивостью здравого смысла, живущего по часам и самозванно взявшегося бытием управлять.
Но стоит мысленно вывести сознание и время из вырытого историческим и диалектическим материализмами русла внешних необходимостей, стоит им заглянуть друг в друга, как они, уличённые во взаимном влечении, сбрасывают маски: поощряя путаницу внутренней жизни и взывая к порядку, сознание и время предстают деятельным симбиозом – заглядывая в инобытие, всё откровенней координируют свои скрытые цели, воплощая их в индивидуальных судьбах и художнических свершениях; и если точная наука наткнулась ненароком на волну-частицу и до сих пор не оправилась от потрясений, обусловленных компрометацией причинности и однозначности, куда как удобных для академической ломки копий, то относительность, многозначность – извечны для стихии искусства, которая порождается сознанием-временем».
как не дополнить?
Вспомним о путешествиях по времени, прикладываниях рулетки к абстракции, лишённой размерности, и прочих безумствах.
Вспомним, что путешествия те совмещались с блужданиями по ландшафтам собственного сознания.
Да, он, бывало, сидел, уставившись в одну точку, но, в отличие от Соркина, так много в ней, этой точке, видел.
Да-да, компонуя и перекомпоновывая временные текучести, он, упиваясь пластичностью неведомого ему досель материала, пристраивал одно к одному, а то и встраивал одно в другое, разные, подчас несовместимые пространства, доверившиеся постэйнштейновской искривлённости. Квартира Художника вместе с саднящей живописью перемещалась в больничный сад, Соснин мог подолгу простаивать на мокрой после дождя дорожке перед свежепахнущим олифой, лаком, чуть наклонно укреплённым на мольберте большим холстом, за которым столько всего открылось. А чуть сбоку парила на голубом облаке квартира поменьше, из комнатки-пенальчика с ветвистой трещиной на потолке и стене при этом виднелись мокрое место катастрофы, алеющий трезубец Ай-Петри, Орвиетский собор.
Дрожала листва…
Мельтешили над головой, как когда-то в Мисхоре, кроны…
А поверх крон, словно свето-изобразительная проекция, – вздрагивал от порывов ветра мраморный угол Орвиетского собора – тянулись к синим холмистым далям горизонтальные серозелёные полосы бокового фасада, солнечно-белый, изящно-стреловидный, с пиками и треугольниками, лицевой фасад омывало небо.
Зазвучал заупокойно орган… а-а-а, органный концерт, отрывок из мессы Моцарта… Вика и Нелли, задвинутые другими женщинами в запасники памяти, выдвигались вновь на передний план. Зажмурился, увидел то, что невозможно вообразить: вертелись, как гигантские прозрачные ветряки, маховики судеб, два бесплотных безжалостных механизма сближали Вику и Нелли, а к ним, двум механизмам сближения, исподволь подключался третий, раскручивавший собственную судьбу Соснина, и он своими руками, будто при подготовке самых ответственных шагов и душевных движений не доверял небесному сервису, развинчивал и, смазав, наново свинчивал диковинные холодные механизмы жизни и смерти, и вот все три механизма синхронизировали совместные убийственные усилия, если, конечно, откуда-то свыше ими продолжал управлять изначальный злой умысел. Вновь обрели на миг резкость, покинув лиственный фон и проступив сквозь голубые клубления, филигранные детали Орвиетского собора, на мраморных ступенях смешались туристы и прихожане. Друг за дружкой, понятия не имея, что их ждёт, прошествовали Вика, Нелли, окутанные туманной голубизной, но Соснин на сей раз не удивлялся, знал, знал уже, что это не случайное совпадение.
Умолкал далёкий орган.
Растворялись клочки голубого облака.
С порывистым равнодушием неслось время; как ветер, как пламя.
И во всём, во всём угадывалась подспудная ритмика, биение общего сердца потаённых единств, чьё многообразие способно свести с ума.
Шевелила губами актриса, придирчиво заглядывала в осколок зеркала.
Коренастый мессия, слепо уверовавший в исключительность своей иллюзорной роли, так и не заметил шутников, обстреливавших его шариками, слепленными из хлебного мякиша. Продолжал упражнения в конце дорожки. Расхристанный, кое-как подпоясанный, он то ли раскрывал объятия, то ли предварял болевой обхват. Что за дьявол укрылся в нём, прикидываясь внешним противником? Мессия походил на убого экипированного неутомимого каратиста, увлечённого боем с тенью или до седьмого пота отрабатывающего приём перед зеркалом, время от времени, входя в ударную фазу, резко пинающего воздух, как если бы всё мировое зло, от которого тщился избавить мир, пряталось в колебаниях зелёной темени.
планида: между образом жизни и жизнью образа
Блеснул зеркальный осколок на ящике, который актриса непроизвольно толкнула коленкой, метнулся по листве зайчик, пробежал по глазам. Пребывание «между» было ключевым для Соснина состоянием, когда он придирчиво обозревал свой бесформенный пока что роман…
Опять зажмурился – а что, что творится в зазоре между предметом и его зеркальным отражением?
ещё кое-какие дополнения-наблюдения
Присматриваясь к парадоксам сознания-времени, виновным едва ли не во всех парадоксах искусства, не грех восхититься неубывающе-бессвязной щедростью образов, несущихся перед мысленным взором – редкостные комбинаторные потенции, избыточные возможности вертеть так и эдак любую предметную или беспредметную заинтересованность, выражают познавательные интенции личности, заброшенной в загадочный мир. За бестолковостью мельканий и деформаций, из которых складывается зрительный образ сознания-времени, прячется средоточие смутных желаний «я», добровольно промывающего мозги, размывающего психическую структуру, чтобы вступать в контакт с влекущим, но непонятным. Сознание-время ищущего «я», соприкасаясь с бессознательным, галлюцинирует, опьяняется непоследовательностью, заскоками в сумасбродство, а всё, что волнует по ходу поиска, волнует неясностью, незавершённостью, из-за чего восторженно-растерянная реакция «я» рождает полуволю, полувкус, полуоценки, полуостранённость, полуответственность и прочие непредвзято-открытые условия подлинной восприимчивости. Сознание-время ищущего «я» – это ленивое и мятежное дискуссионное царство промежуточности, где никогда не поздно отказаться от выбора, где можно наперекор логике податься в ту сторону, а не эту, высказать что-либо для того, чтобы потом себя опровергнуть.
всё ещё в поисках желанной модели
Постепенно, исподволь, Соснин наделял сознание-время сходством с содержанием-формой воображаемого романа, вернее – замыслом романа, клубящимся неясностями, рвущимся в летучие клочья, как облако, которое треплет небесный ветер, опять срастающимся. Сочинитель при этом знай себе шатается из стороны в сторону, опровергает себя по поводу и без повода, мечтая о том блаженном миге, когда вещь сложится с божьей помощью, композиция выстроится, а он, сочинитель, очнувшись после приступа счастья, сосредоточится на шлифовке стиля, начнёт, наконец, пестовать прозу, словно моллюск жемчужину.
Вспоминались проектные поиски – волнующий глянцевый шелест кальки, ложившейся слой за слоем; удовлетворённый последним эскизом, собираясь выбросить промежуточные, замечал, что в первом и последнем эскизах было на удивление мало общего. Ищешь Индию – откроешь Америку?
Но пока замысел клубился, издевался над мечтами о форме… даже забравшись высоко-высоко, выше собственной головы не прыгнуть?
Там видно будет.
Пока же, упиваясь и чертыхаясь, он воспринимал аморфный, смешивающий пролог с эпилогом замысел и как хаотичный метапролог романа, и как составную, путаную пока, но необходимую часть его… нечто похожее, пусть и с натяжкой, и в не смонтированном кино бывает, когда перемешаны, дожидаясь отбора, дубли, когда ещё в композиционной последовательности не склеены кадры, а финал и вовсе репетировался и снимался в первый съёмочный день.
почти технологическое сравнение
Всё ещё всматривался, всматривался, ждал, что вот-вот выплывет из тумана долгожданный корабль.
При этом созерцательно-самоуглублённое нетерпение было вполне сравнимо с трепетом фотоохотника, который спустя срок после ловли улыбок, не моргающих взглядов и всего прочего, оставляемого на память, окунает в проявитель белый лист униброма, тайно хранящий изображение в эмульсионном слое, и ждёт, когда проступят сквозь туман контуры.
Может быть, Соснин вообще не пишет, а проявляет давно отснятое?
Глядит на колебания девственно-белого листа в чудесном растворе… Развёртывается текст, длится, длится, растекаясь в мельканиях, отражая сознание-время, но до чего же хочется вдруг остановить развёртывания-растекания, лишив великий могучий язык глаголов, хочется свернуть, уплотнить, сгустить текст до многофигурного интригующего иероглифа, одолеть параличом символики броуновское движение жизни, увидеть весь роман, как необозримую и застывшую, превращённую в дивный, никогда ещё не существовавший ландшафт мизансцену, и лишь потом побежать пером дальше. Это как поймать фотоизображение внутри стремительной киноленты… Проступают из розового тумана контуры, он зацепляет пинцетом карточку, промывает, от неё больше нечего ждать. Но, вспоминает он, фото можно увеличивать, отыскивать на изображении новые подробности. Увеличивать, пока не обнаружится в кустах труп? Увеличение с многократным кадрированием внутри замышленного кадра сжимает даже обширную панораму до невразумительного штришка рядом со своей же собственной, неудержимо вырастающей зернистой деталью, которая вдруг испугает и заставит отпрянуть, будто омерзительно выросшая под микроскопом мошка, тут от техники – полшага до видения!
Может быть, Соснин вообще не пишет пока что, а медленно увеличивает и, вооружившись лупой, исследует затем, как криминалист, когда-то отснятое?
вдохновенно-тревожные соблазны пограничного состояния
Состояние Соснина, выросшего до небес, но – погружённого в замысел, буквально и метафорически воспроизводило сон, вернее не столько сон, атрофирующий волю спящего, превращающий его в раба сюрреального зрелища, сколько полусон, который тоже не чужд сюрреальности, но при этом всё же позволяет задремавшему, прикорнувшему где придётся и беззаботно посвистывающему носом под усыпляющий ритм наших рассуждений довольно-таки активно режиссировать действие, вмешиваться в подбор сюжетов, их компоновку, мирно совмещая в своей активной полуосмысленности возбуждение и покой, лёд и пламень, прочие болезненно спорящие на яву противоположности, ибо в полусне, пусть самом страшном и вовлекающем, но всегда рассматриваемом с безопасного удаления, не испытываешь подлинной боли, так как смутно чувствуешь, что не живёшь, а спишь, будто бы живёшь под наркозом, лишь частично замутнившим разум, хотя вполне достаточным, чтобы пускаться в смелые художественные операции: пересадки, ампутации, отключения мозга, сердца, заставляющие невероятные события плутать между зевками. И почему-то обретаешь неземную лёгкость, ввязываешься в какую-то ветреную игру с огнём, вдохновение бодрит, обжигает, как бодрит и обжигает на яву солнечный и свежий денёк, а пробуждение – о нём поневоле задумываешься – грозит изгнанием из беспокойного рая. И знаешь об этом, и не просыпаешься, попросту не позволяешь себе проснуться, в напряжении внутренней работы хочется продлить сладостную летаргию двигательной расслабленности, как хотелось когда-то лежать, положив голову на колени Вики, и смотреть полузакрытыми глазами в безоблачную небесную глубину, а боковым зрением – вдоль полосы песка, в густо-синюю даль с раскисающим пароходом.
И вовсе неотличимыми делались сонливая фантасмагоричность, причудливость пробуждающегося вдохновения и растревоженность сознания, расплескивающего направо-налево образы. И параллельные сюжетные линии вольно пересекались, и боязно было не досмотреть, куда такие вольности заведут; ох, боязно было, что сумрачные красоты и их тайные смыслы развеются, или померкнут, обернувшись правильно выстроенной и увязанной прозаической дребеденью, экзотическая флора зачахнет… казалось, враждебная реальность вот-вот прорвёт нежно-сияющую, уязвимую, как у мыльного пузыря, оболочку, внутри которой правила бал полусонная экзальтация. И тем ещё отличался от сна полусон, что при всей неотвязно-мучительной соблазнительности юркнуть в него, забыться в тёплых колебаниях дремоты, он не позволял всё же впасть в безумие полной свободы от хода времени. Тик-тик, тик-тик, тик-тик – не позволяли покинуть реальность, когда Соснин, блаженствуя, посматривал в небо, Викины часики.
извлечение (из записей персонажа), заставившее автора усмехнуться
«Познавая себя, – доверялся очередной странице Соснин, – человек меняется быстрее, чем под давлением внешних сил.
Узнает ли себя автор, дописавший роман?»
чем и как заканчивался сон (полусон) новоиспечённого Гулливера