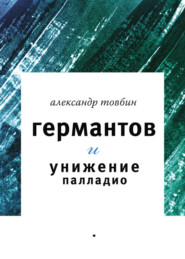По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Приключения сомнамбулы. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пробивая тучу, Соснин промок.
Звёзды, луна светили, но не грели.
Пижама покрывалась ледяной коркой.
Скованность и одиночество монумента…
Да ещё резкий ветер обдирал лицо рашпилем… холод и одиночество.
Захотелось земного тепла, разноголосицы, суеты, неодолимая сила потянула Соснина вниз, голова закружилась, уменьшаясь, он начал стремительно приближаться к туче в компании падающих звёзд, которые сопровождали его до тех пор, пока глаза не залепило туманом, а мысли, предусмотрительно отцепленные на запасных небесных путях, вдруг догнали. И хотя он ничего не мог видеть кроме наплывов мути, он отчётливо увидел, как бредёт по кругу, смешивая прошлое, настоящее, будущее, как возносится ввысь и шмякается потом о землю. И оживал дух захватывающий разлёт гигантских шагов, несущих по всхолмлённому кругу; посеменив ногами в воздухе, торопливо отталкивался, взлетал, описывал волнистую траекторию, и неотвязная сила, которой он управлял и которой повиновался, несла вниз, к встрече с землёй, удару, новому отталкиванию и – дальше, выше, выше, к мигу плавного зависания перед спуском… мысли, догоняя, перегоняя, искрили, вспыхивали короткими замыканиями пространственно-временных стыковок. Да, между небом и землёй поджидала прослойка тумана и, воспаряя ли, снижаясь, он одолевал полосу помутнений, где вынашивалась образность, ждал, когда прольётся из лазури с пением жаворонка прозрачный свет… и в полусонной послеобеденной мечтательности готовился восхититься блеском рек, жёлто-зелёными, в коричневый рубчик, полями, буколическими перелесками.
Ушло вверх мохнатое, в тускло-багровых подпалинах брюхо тучи.
Знакомое единство хрестоматийных ансамблей, доходных домов, улиц и набережных. Змеиный невский изгиб у Смольного, тёмные рукава каналов с затёками огней вдоль гранитных стенок; промелькнули бессвязные неоновые штришки, кое-где – подсвеченные витрины над бледно-жёлтыми плевками отражений на мокром асфальте. Сжалось сердце от любви к этому каменно-штукатурному, взрезанному водой волшебству, от необъяснимого страха за него, тонущего в февральской хляби. Пока ещё Соснин был большим, сильным, ему захотелось защитить, заслонить собой город, не дать надломиться шпилям, не позволить, чтобы потемнелые кирпичные стены с аркой рассыпались в розоватый прах, но его плавно повело в сторону, ощутил упругость туловища, рук, шеи, удлинённое, гибкое, как стебель, тело его заколебалось туда-сюда в произвольно менявших направления воздушных потоках, и таяли вдали вспучившиеся ватой крыши, пробитые чёрными пустыми дворами, где пресеклось его детство, а ноги, обутые в промокшие полуботинки из грубой выворотки, чудом не задевая поликлинику и соседнюю с ней пятиэтажку, месили грязный снег между перелеском и железобетонным шабашем. Где оно, ласково обволакивающее тепло? Уже мысленно прислонял свои ботинки к батарее, чтобы к утру просохли и проступила бы на каждом ботинке извилистая белёсая линия, точь-в?точь такая же, как на спинке рыжего хомячка, который беззаботно сновал когда-то из угла в угол металлической клетки, перемалывая кружки морковки, обрывки капустных листьев, а летом, на даче под Сиверской, хомячок ещё за мгновение до гибели под велосипедным колесом блаженно пасся в буйной зелени лесной опушки среди ромашек и колокольчиков…
Пока Соснин тянулся к небу в алмазах, ботинки его, хотя и елозя по грязи, снежной каше, росли вместе с ним. Он, конечно, не мог их, заслонённых тучей, увидеть, но если бы увидел, то ужаснулся – два страшных реликтовых хомяка с зашнурованными на позвоночниках спинами с остервенелостью неолуддитов давили вонючее машинное племя, не зная разницы между авто с мигалками, бульдозерами, экскаваторами и самосвалами, давили, как тараканов, оставляя от быстрой и мощной техники лепёшки железа, в которые утыкались узорчатые следы шин и гусениц. А теперь, пробив тучу, уменьшаясь и приближаясь к земле, Соснин был удивительно похож в своём снижении на новичка-парашютиста, слепо целящего ботинками в центр круга.
инвентаризация метафор и пр. пр. пр. (вплоть до ужина)
Очнувшись от послеобеденной дремоты, дожевал абрикосы, скомкал, бросил в урну кулёк; спугнул кошку – обиженно соскочила со скамьи – потянулся, сладко-сладко зевнул – пора писать, довольно хватать звёзды с неба.
Ведь это так, навязчивые метафоры: туман, дрейфующий в тумане корабль, расплывчатое начало фотопроявки… А текст, набирая резкость, становится вещью. Что-то получилось, что-то – нет, и настроение гнусное. Да-да, сознание, освоенное мышлением, обедняется, мысль, выраженная словом, вянет, слово, воплощённое в дело, меркнет – круговая порука потерь.
Поэтому-то суеверно боялся конца романа – мечтал о последней точке и даже мысленно в ней оказывался, мечтал дописать и боялся осуществления мечты, многократно замыкал и размыкал круги, тянулся к открытости текста, его принципиальной незавершённости. Тем временем персонажи романа – их много, очень много – так ничего и не узнав о себе на бессловесной читке, расставались со смущением и, словно на массовке, замученной репетициями, то буйно шалили, то затихали, усталые или пристыженные, выбежав же внезапно на яркий свет, норовили, будто застенчивые дети, спрятаться друг за дружку, а за всеми их увёртками и ужимками терпеливо наблюдал, выбирая точку зрения, глаз с ржавыми крапинками вокруг зрачка.
Чтобы дойти до сути, принимался опять и опять колдовать над хромосомными цепочками фактов, но ветер ли, ворона, раскачав ветку, бросали в муторную болтанку; уходила из-под ног, проваливалась шаткая палуба яхты, Филозов в непромокаемой амуниции командовал, менял галсы. А Соснин, балансируя в последней романной точке, связывая эпизоды в фантастически простую историю, выдавленную из него обстоятельствами, боялся хоть что-нибудь упустить, а уж тот день, начавшийся с бездыханного тела на платформе метро, со свиста ветра в снастях, он воссоздавал-выписывал во всех-всех подробностях… и – откуда, что берётся? – сдавливала горячая потная толпа с вылупленными, как чесночные головки, бельмами вместо глаз. Он вырывался, порвав страницу, и бежал, бежал из последних сил, пока не запутывался в подсинённых тенью кочегарки простынях, сохнущих на заднем дворе, – липучие тяжёлые простыни и вовсе испугали его…
За кочегаркой – ещё одна, дырявая, с гнутыми прутьями, металлическая ограда. Проржавевшая калитка, запылённая листва… прочь.
Запах скошенной травы разъедал ноздри, глаза щипало.
Вытащил из кармана платок.
Да, косили траву. Распаренный редкоусый косарь, студенисто-бескостный, в обвислой спецовке, механически – вжик-вжик-вжик – орудовал щербатой косой на крохотном газончике у часовни, умудряясь не срезать по щиколотки ноги актрисы, которая в блаженном забытьи тушью красила уголочек века. И тут уже Соснин забывал о мокрых простынях, взмахах косы, актрисе, вставал на цыпочки, чтобы поймать в сколе её зеркальца сияние радуги.
И опять кружил, кружил, опять выйдя не туда, опрометью бежал от пижам и халатов, млеющих на солнцепёке площадки отдыха, где из бетонного блюдца пылил фонтан, комковатая земля пестрела конфетными обёртками, а несколько желтоватых цветков, уродившихся на подобии клумбы, шелушились полупрозрачными лепестками, похожими на крылышки насекомых.
Но скамейка в кустах сирени ждала его; улизнул с мёртвого часа и теперь до ужина мог писать.
Трепетали сердечки-листья.
Облака затевали новую потасовку.
Пахло морем.
И дьявольски быстро, быстрее, чем таял шлейф серебристого стреловидного самолётика, таяло время.
Скоро косо рассечёт стену синяя тень.
Вот-вот стеклоблоки котельной загорятся сусальным золотом.
И последним он побежит на ужин, зарозовеет небо в сиреневых перьях.
Соснин спешил, цеплялся за малозначительные детали, надеялся спасти с их помощью смысл случившегося, да и случающегося ежеминутно… смысл, который, отделяясь и отдаляясь от фактов, казалось бы без остатка размывался потоком дней, но вдруг чудилось, что он, целёхонький, таится где-то рядом, под новой бессмыслицей.
Так – или примерно так – он писал.
ужин
На ужин были оладьи с повидлом – или со сметаной, на выбор – и чай.
в «уголке психиатра» (после ужина)
В клизменной, за перегородкой, привычно клокотал унитаз.
Когда дежурил Всеволод Аркадьевич, клизменная не запиралась до позднего вечера, он считал очистку кишечника перед сном особенно благотворной, отыскивал и подгонял больных, которые прятались по палатам от экзекуции. Очередь на процедуру обречённо заняла, шевеля губами, актриса; пахло мочой.
– Приходит пьяный, накидывается, как на девку…
– А мне так пусто, лежу, упёршись в стенку, не сплю…
– Да, тебе бы мужика покрепче, и чтобы на целую ночь… Медсёстры у постового стола изливали души, будто наедине.
Ну да, пациенты для них – неодушевлённые. Соснин включил бра в нише: «Гений и помешательство», так-так, банальности туринского психолога девятнадцатого века о болезненных истоках творчества Гоголя, Толстого. Ниже – другой учёный автор, поинтереснее, о мании преследования, об остром бреде. «Бредовое безумие выражается не столько подавлением сознания и прекращением психических реакций, сколько беспорядочностью в сочетании идей, наплывом бредовых представлений, чаще всего связанных с иллюзиями и галлюцинациями. Высшая форма бреда наблюдается тогда, когда больной находится под влиянием аффектов страха, ужасов и тоски, больного преследуют реальные и выдуманные персонажи прошлого… аналогичные состояния наблюдались у мексиканских индейцев, которые питались перед экстатическими ритуалами особыми грибами-галлюциноидами…»
Так-так-так, Вику преследовал реальный персонаж прошлого, она его, преследователя, реально видела, а её сочли неизлечимо больной, жалобы приняли за бред. И никакого чувства вины, – подумал Соснин, – никакого, всё так удобно списывать на механизм судьбы. Сам-то он всё-таки здоров или болен? И занимает ли его искусство место болезни? Что бы ни говорил утешитель-Душский, на него ведь и бредовые представления наплывают, и иллюзии с галлюцинациями реже, чем хотелось бы, в нечто художественное находят выход, и муторно бывает, будто мухоморов объелся. Ага, шизофрения может переходить в неизлечимую манию преследования, как у Вики, или вести к атрофии памяти: «шизофрения – прогрессирующий психоз, который приводит ко всё большей замкнутости и разрушению личности вплоть до разрыва с реальностью, характерно возникновение бредовых идей по типу страха и панических озарений. Но бывает, что бредовая система развивается всё медленнее, обычно затухание бреда связано с мозговыми патологиями. Память – стержень личности, с разрушением этого стержня разрушаются все структуры «я», ибо с нарушениями памяти…».
А если память, напротив, активизируется, обостряется, это ускоряет «бредовую систему»? Если воспоминания переполняют, накладываясь, сталкиваясь, теснясь, то ускоряется и оборачиваемость бреда?
Сколько сюжетов. У каждой болезни, имеющей общие для всех больных ею признаки, свой индивидуальный сюжет. Свои завязка, течение, свой конец.
Хлопнула дверь клизменной, – следующий.
– Выгоню его, алкаша-грубияна, выгоню! – грозилась кудреватая, толстенькая медсестра; другая, тощая, с короткой стрижкой, глотала слёзы.
«У больных с нарушениями памяти по мере нарастания интеллектуальной недостаточности пропадает и чувство времени, его ритмов. Для таких больных исчезают ощущения утра, дня, вечера, стираются интервалы между событиями, а сами события – например, обед, ужин – изымаются из временного потока, не воспринимаются как многократно повторяющиеся…»
день за днём
Бухала на Петропавловке пушка, взлетали вороны.
Он привык к своему укрытию в саду, защищённом облупившейся толстой стеной, благодарил случай, спрятавший его в этом убежище, среди безумцев, и хотя в кармане бренчали двухкопеечные монеты, неохотно звонил на волю из вестибюля по автомату, когда же мать, сославшись на Душского, пообещала скорую выписку, задумался – что бы такое натворить, чтобы остаться? Нет, он решительно не желал покидать психушку. Машинально слушал материнские жалобы. – На Новоизмайловском, в «Синтетике», зря отстояла очередь, уже на Большой Московской, на ступеньке метро подвернула ногу… у папы схватило сердце, вызывали скорую… машинально, если не равнодушно слушал. Как и Шанского – навестил вчера, в приёмный час. Нудно костил ОВИР, тянувший резину с выдачей выездной визы, – приняв решение, Шанский хотел поскорей пересечь границу, было бы бесполезно объяснять ему, чем и как закончится его эмиграция; что-то говорил о наполеоновских, тоже закордонных, планах Бызова, чьи научные идеи заждались международного признания, об измывательствах следователей Большого Дома над Валеркой, о Милке, у неё, судя по анализам, подозревалось худшее, а дурёха вместо того, чтобы лечь, наконец, на обследование в хорошую, при мединституте, больницу, благо у Гошки нашёлся блат, собиралась осенью к морю… слушал равнодушно, волнения ли, желания, донимавшие его друзей там, за больничной стеной, не трогали, знал, к чему их жизненная суета приведёт, знал, что ждёт каждого. Мечтал заглянуть за горизонт, теперь, заглянув, знанием своим тяготился. – Ты какой-то другой, – сказал Шанский, прощаясь.
Через день угроза немедленной выписки миновала сама собой – Душского ночью разбил инсульт. Подслушал перешёптывания сестёр – старик был безнадёжен: паралич, потеря речи. И Всеволод Аркадьевич, он же Стул, уже полноправным хозяином носился по отделению.
Выписали Соснина в конце сентября, когда и жалеть об этом не стоило – вдохновение улетучилось, а погода испортилась, деревья облетали – медленно планируя, ложились у ног или на скамью пожелтелые кленовые листья; жаль только, что продлить лето не удалось – ждал возобновления суда и не смог слетать на Пицунду.
Лишился в тот год дальних заплывов, не провожал по вечерам под шелест пальм в море вязкое, как томатная паста, солнце, не засыпал под монотонный гул волн.