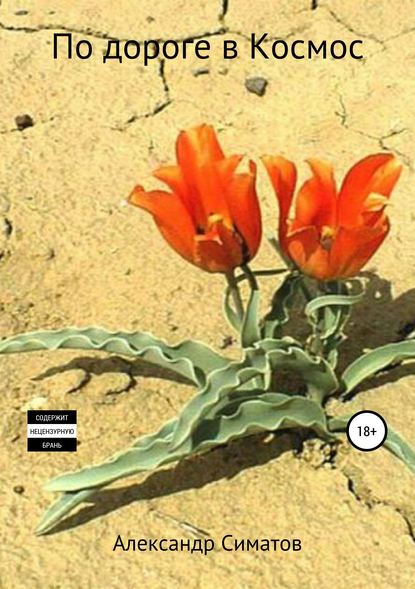По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
По дороге в Космос
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Офицеры остановились на полпути.
– Гепатит! – вспомнил начальник госпиталя. – Было довольно много подозрений на гепатит с особенностями протекания болезни. Все больные были отправлены в госпиталь в Ташкент. Сейчас появилась возможность проследить течение болезни здесь, на месте. Прошу обратить внимание и держать меня в курсе. Вот теперь свободны, – и начальник госпиталя ободряюще улыбнулся.
Выйдя из барака, Владимир Петрович и начальник отделения направились к инфекционной палатке. В ней уже были расставлены кровати и пребывали первые больные.
На тумбочке у входа из металлического бокса со шприцами поднимался пар, медсестра готовила укол. Она только что ввела новокаин в пузырек с пенициллином, взболтала его и затем начала медленно засасывать раствор. Набрав нужный объем, вытащила шприц из пузырька и, выгоняя остатки воздуха, выдавила из него несколько капель. После смочила ватку спиртом и направилась в дальний угол палатки, где ее ждал, лежа на кровати, солдатик-узбек с приспущенными трусами и боязливым взглядом.
Наблюдая отточенные до совершенства движения сестринских рук, Владимир Петрович начал приходить в себя. Впереди ждала работа.
…Через год он забрал на Байконур семью и тетку жены, старую деву Марусю. Благодаря Марусе Шурочка смогла пойти на работу в госпиталь, а на плечи Маруси легли заботы о малолетних детях. Им дали десятиметровую комнату в бараке. В общей кухне из крана текла белесая вода, хлорированная сверх всякой меры. На кухонной стене висело большое жестяное корыто для купания детей. На ночь детские кроватки они ставили ножками в банки с водой. Обнаглевшие клопы с легкостью выходили из положения, планируя с низенького потолка вниз за самой молодой кровью.
Случаи заболевания гепатитом тюратамской разновидности начали принимать массовый характер. Дизентерия и отравления по-прежнему не отступали. Травмы и ожоги были привычным делом.
Солдат стали мыть вовремя, со сменой белья согласно уставу. Большинство из них ютились в землянках и жили мечтой о дембеле.
Обитатели бараков и землянок и даже всезнающий матерщинник Серега не догадывались, что до запуска первого искусственного спутника Земли и триумфа самого передового общественного строя оставалось всего полгода.
24-е октября 1960 года
Владимир Петрович вспомнил страшную катастрофу шестидесятого[3 - В этот день произошла крупнейшая в мире катастрофа: такого количества жертв не было за всю историю испытаний ракетной техники. Документальные съемки – http://www.youtube.com/watch?v=81FgnAQHhPs(все пуски всегда фиксировались на пленку, таково было правило, цвет добавлен позже).], и глаза его заблестели слезами.
…24-е октября, понедельник. Весь советский народ торопится новыми достижениями встретить очередную годовщину Великого Октября. Начало восьмого вечера, быстро темнеет. Стук в дверь, громкий, торопливый. Солдатик, нарочный, запыхавшийся, глаза испуганные. Доложил: «Срочно прибыть!» – «Куда?» – «В госпиталь, товарищ майор! И вашей жене тоже!» – «Что случилось?» – «Не знаю, приказ поднять по тревоге». Ноги не попадают в штанины. Выскочил!
По будущей улице Космонавтов бегут люди, проносятся шальные армейские газики. В воздухе – ощущение беды.
Так кого поднять по тревоге? Всех! Весь госпиталь! Немедленно! Нарочные не успевают. Что значит, не успевают?! Так позвонить всем! По трубе, что ли, телефонов же нет ни у кого. Как нет?! Так нет! Вашу мать…
В госпиталь прибывает медперсонал. Неразбериха. Одним: приготовиться к приему обгоревших людей! Все ресурсы – мобилизовать и ждать! Подготовить операционные! Какие? Все! Освободить палаты! Где, какие? Любые! А что случилось? Катастрофа! Ракета взорвалась! А у нас есть ожоговый центр? А у нас нет ожогового центра. Другим: обеспечить эвакуацию санитарным транспортом! Все скорые машины, все бригады – на 41-ю площадку! Немедленно! Ясно сказано? Немедленно! Забрать все имеющиеся носилки! Из реанимации все врачи, сестры – в «скорые»! Перевязочный материал! И обезболивающие с собой – морфин, промедол. Начинать только с них!
Добрались. Уже стемнело. Запах – невообразимый. Мачты освещают место. Кругом пожарные расчеты с включенными фарами. Выбрались из «санитарок», смотрят. А там – ужас.
Огонь еще не угомонился, ему все мало, близко не подпускает. Покорежившиеся, оплавленные конструкции. И черные бугорки повсюду на земле, там, где бегущих врассыпную солдат, офицеров, инженеров, конструкторов догнала и накрыла страшная многотонная огненная волна. И черные силуэты на расплавленном битуме, в котором завязли и не смогли выбраться. И черные фигурки на колючей проволоке ограждений, которую, обезумев, рвали своими телами и не смогли преодолеть, с сожженными спинами и затылками, с лопнувшими глазами. И живые разбросаны кто где, докуда успели добежать, спасаясь от адова пламени. И непострадавшие с беспомощными глазами.
Душераздирающий стон. Горелое мясо. Мозг заклинивает. Общее оцепенение. Очнулись: что стоим – начали! Сначала колем наркотики! В глазах слезы, руки трясутся, медсестры работать не могут. Взять себя в руки! Как? И тут еще – поперек: они к тому же отравлены, возможен отек легких. Чем отравлены? Ядовитыми парами гептила. А что это? Ракетное топливо. Как нейтрализовать? Никто не знает, не знает никто, вашу мать! Может быть, молоком? А оно есть? Его детскому саду едва хватает. Вашу мать. А как поднимать, как укладывать на носилки? Осторожно! Как хрусталь! До живых дотронуться невозможно – невыносимая смертоносная боль. Специального оборудования для транспортировки людей с обширными ожогами нет. Как нет?! Опять нет?! Значит, чем долбануть по америкосам есть, а телефонов, медицинского оборудования и молока – нет?! Диверсия?! Нет – режим. Какой такой режим? Коммунистический. Так его растак в бога, в душу, в мать…
Умирают, умирают, умирают. На руках, на носилках, в «скорых», в госпитале.
Начальники бродят в растерянности. И одно и то же: «Где маршал[4 - 1-й главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения, Главный маршал артиллерии Неделин Митрофан Иванович.]?! Маршал где?!» Молчание. Маршал должен быть! А как же? Как хотите! Так ведь не отличить. И вдруг откуда-то: «Звезда Героя, по звезде Героя!» Так ведь расплавилось все! Вашу мать. Найти его черный бугорок по звезде, по чему хотите. И, отведя в сторону разные чины, пялясь жуткими глазами и понизив голос, главный из живых: «Вы понимаете, что маршал должен быть?!»
И понесли бугорки и фигурки в специальный барак до утра. И назначили один бугорок маршалом.
А главный конструктор[5 - Янгель Михаил Кузьмич – академик, выдающийся советский конструктор ракетно-космических комплексов, главный конструктор межконтинентальных баллистических ракет для Ракетных войск стратегического назначения.] жив? Главный конструктор жив, повезло, слава богу. Узнав об этом, первое лицо оттуда, из кремлевского поднебесья, главному конструктору – недовольным до ненависти тоном: «А ты! Почему остался жив, у-у-у?», подкосив инфарктом выдающегося изобретателя, создавшего межконтинентальную баллистическую ракету для военных… А не это ли первое лицо и его приближенные бонзы терзали маршала и конструктора ежедневными звонками и намеками: «Дорого яичко ко Христову дню», провоцируя невиданную спешку и беспрецедентное нарушение испытательных нормативов? И не оно ли, это первое лицо, и все его большевистские предшественники заразили страну своими коммунистическими годовщинами и юбилеями?
Отчаяние улеглось, истлело. Все уже бесполезно, бессмысленно. Агония командирского ора и начальствующих указаний. Вынянчить бы тех, кого довезли до госпиталя.
А теперь забыть. Никто, никогда и нигде не имеет право на правду. Точка. И забыли, с этим строго.
А несколько дней спустя через все бессовестные рупоры страны: «…маршал трагически погиб в авиационной катастрофе…» Один?! Один. Еще есть вопросы? Вопросов нет. Похоронить в стене, урна с прахом. Почему? По кочану! И похоронили. Первое кремлевское лицо при этом отсутствовало.
После сто телеграмм и звонков во все концы необъятных бесправных просторов: «Ваш имярек героически погиб при исполнении служебных обязанностей». А как, где, почему? Хотя бы в лицо посмотреть. Не надо вопросов! Сказано же – героически погиб при исполнении служебных обязанностей. Все! С этим и живите.
Вереница закрытых гробов и братская могила в Солдатском парке, похороны бугорков, силуэтов и фигурок, плач Байконура. И его тайна. Позже – стела.
А ровно через три года, день в день, – еще одна катастрофа. И тот же текст: «Ваш имярек героически погиб при исполнении служебных обязанностей».
Два раза – в одну воронку? Так не бывает. Главный маршал артиллерии подтвердил бы это – и ошибся. Бывает. С тех пор в этот спланированный людьми и проклятый небесами день ракетчики не испытывают, не запускают и не делают ничего – сидят по домам и пьют водку. И так навсегда.
В Самаре, в отпуске
Владимир Петрович вспомнил, какие мать пекла пирожки.
Пирожки были с незамысловатой начинкой: с картошкой и зеленым луком, с луком и яйцами, с яйцами и капустой. Они получались у матери такие вкусные, что есть их можно было без счета, пока не кончатся. Из подпола, служившего одновременно складом и погребом, доставала мама бидон холодного молока. Молоко она покупала только на рынке, знала, у кого купить, и никогда его не кипятила, несмотря на ворчание двух инфекционистов. Разливала молоко в граненые стаканы с ободком, звала к обеду и предлагала «отведать» пирожков. И начинался пир горой, сыновей было не оттащить от стола. А мама доставала из печи очередной противень, подкладывала в миску «горяченьких» и шумела на внуков, чтобы «не надламывали, а ели все подряд». Такой вкуснятины он не пробовал больше никогда в жизни.
Мать его, Татьяна Николаевна, в девичестве Крюкова, была из крестьян, имела четыре класса образования и обладала врожденным чувством меры, этой внутренней основой интеллигентности. Она умела читать и писать, писала как слышала, буквы у нее выходили одна к одной, аккуратные и понятные. Была она набожной и неприхотливой. И выносливой как ломовая лошадь. Как, впрочем, и все русское крестьянство, бывшее одной большой, нещадно битой хозяевами ломовой лошадью, испокон веков тащившей русский воз по родному бездорожью, но окончательно надорвавшейся под большевистские лозунги от побоев и бескормицы и более уже не встававшей – сколько ни манили овсом, сколько ни стегали.
Отец умер, мать осталась одна. Владимир Петрович старался всегда навещать ее, когда бывал в отпуске. Коротенькая улочка, на которой стоял родительский дом, в темное время суток едва освещалась тремя жестяными фонарями на деревянных столбах. Улочка не заслужила асфальта, была вечно разбита колесами телег и грузовиков и встречала приезжих грязными лужами. Но зато, в качестве компенсации нищеты, носила она имя великого сатирика Салтыкова-Щедрина.
Всякий раз по приезде Владимир Петрович с грустью наблюдал, как год от года стареет мать, как ветшает отчий дом, как медленно погибают яблони, как жизнь потихоньку уходит из старого двора и сада вместе с неповторимыми запахами детства и юности. Только бестолковые куры оставались вне времени и бродили повсюду, зыркая бусинками глаз, и замирали вдруг с приподнятой лапой посреди двора, да самодовольный петух, как и прежде, тряс бородой и бросал голову из стороны в сторону, следя за порядком.
Владимир Петрович таскал в дом воду из уличной колонки и думал о том, каково матери носить ведра с водой. Вода была студеной и очень вкусной. Ведра стояли заведенным порядком в полутемных сенцах на лавке. На крышке одного из них, на своем законном месте, всегда покоилась жестяная кружка. Он с удовольствием пил из нее не спеша, маленькими глотками. Над лавкой тянулись полки с кухонной утварью. Он вспоминал, как мальчишкой по утрам в голодные годы шарил по ним в надежде наткнуться на забытый сухарь или кусок хлеба. Ничего, конечно, не находил, но на следующее утро опять искал что-нибудь съестное.
Приехав в отпуск и появившись в дверях дома или открыв калитку сада, он ставил чемоданы на крашеный пол или на садовую дорожку и протягивал к матери руки. Она, всегда чем-нибудь занятая, увидев сына, охала, скоро вытирала руки о фартук, спешила к нему, обнимала и скупо целовала, сдерживая эмоции. Только светящиеся радостью глаза выдавали ее чувства.
Он спрашивал ее всегда одно и то же:
– Здравствуй, мама. Ну как ты? Как поживаешь?
– Спасибо сынок, хорошо живу, – искренне отвечала мать. – А что щас не жить-то? Чай в магазине хлеба-то, – какого хошь!
И от этого – сугубо русского – сермяжного понимания того, что такое хорошая жизнь, Владимиру Петровичу становилось не по себе. Перед ним вдруг проносилась череда воспоминаний. Сначала о пике советских достижений – Байконуре, из которого он только что приехал, с его ракетами и космонавтами, с его правительственными кортежами и иностранными делегациями, с его торжественными рапортами и звездами героев. С его демонстрацией успехов и сокрытием катастрофических неудач. С его бесконечными попытками догнать и перегнать неведомого заокеанского соперника.
Потом в воспоминаниях Владимира Петровича возникали казахские вылепленные из верблюжьего кизяка мазанки и худые дети, бегающие вокруг них в пыли. И перелеты в далекие аулы для оказания экстренной помощи тяжелобольным детям (кроме соседнего Байконура, некому было им помочь), где он наблюдал картины ужасающей нищеты. Он вспоминал, как забирал к себе в инфекционное отделение казахских малышей, задыхающихся от жуткого дифтерийного жабо или сжавшихся в комок и запрокидывающих назад голову от невыносимой менингитной боли. В госпитале он боролся за их жизнь непомерными дозами пенициллина, потому что другого пути не было. А когда возвращал детей живыми и здоровыми, пытался объяснить их плохо понимающим по-русски родителям самые простые правила ухода за детьми и просил не доводить дело до критического состояния, немедленно сообщать. Родители смотрели на него как на идола, а на его походный немецкий саквояж – как на волшебную шкатулку, в которой есть таблетки от всех болезней. Их благодарности не было предела. Он каждый раз ужасно мучился, не зная, как отказаться от бешбармака, которым его хотели угостить эти осчастливленные им люди. И только опытные вертолетчики, хорошо знающие местные обычаи, выручали его, самым натуральным образом клянясь хозяевам, что поступил срочный вызов и надо немедленно улетать. Но от пиалы с кобыльим кумысом отказаться уже не было никакой возможности, и он выпивал его – вопреки своей привычке пить не спеша и с чувством – залпом, до дна и не оставлял ни капли, как того требовали законы кочевников.
После он вспоминал вдруг тещино село с развороченными черными дорогами, ее покосившуюся избу. Вспоминал, как помогал обивать избу новой дранкой. И как теща, подоткнув подол юбки за пояс, в загоне из сколоченных досок месила ногами глину вперемешку с конским навозом, а он подливал ей туда воду из ведра. И как они обмазывали избу этой липкой смесью. И как потом, когда смесь высыхала, большими мочальными кистями-квачами белили избу известью. И как по осени, если выпадал отпуск, помогал убирать на огороде картошку – источник тещиного благополучия, завязая сапогами в набухшей от дождей жирной земле.
Затем, казалось без всякой связи, вспоминал тридцать два рубля материной пенсии.
Эти воспоминания приводили его к очевидности жуткого контраста жизни, к ощущению ее тотальной лжи. Его охватывало смятение, и в сознание закрадывался страшный вопрос: «А зачем моей нищей матери нужен был Юрий Гагарин?» В такие минуты он обнимал мать, только чтобы она не видела его глаз, и говорил что-нибудь банальное, соглашаясь с нею. И стоял так, вдыхая запахи старушечьей стиранной-перестиранной одежки и только укрепляясь в правоте вопроса.
Может быть, если бы не тридцать два рубля, а, например, триста тридцать два рубля, то Татьяна Николаевна гордилась бы своей страной? Вряд ли. Владимир Петрович, коммунист со стажем, конечно же, гордился бы, если бы у матери была пенсия триста тридцать два рубля. А Татьяна Николаевна вряд ли. Внучка и дочь богатых кулаков, на всю жизнь запомнившая, как сельские голодранцы и пьяницы, вдруг наделенные неслыханной властью над людьми, выдергивали из-под нее и братьев последние рогожи, отца оставили в одних штанах да рубахе, а любимого деда, лепившего с ней на Пасху маленькие куличи, забрали навсегда, – не испытывала она к своей стране ничего. Но, может быть, при такой-то пенсии улыбка изредка посещала бы ее скорбное, измученное жизнью лицо? Кто же это теперь знает.
На Земле как в Космосе (вместо эпилога)
За время службы на Байконуре космонавтом Владимир Петрович, разумеется, не стал, но пожить отшельником, как в корабле на околоземной орбите, и походить в скафандре, подобно космонавту, ему довелось.
Кажется, в самом начале 1970-х поступило в инфекционное отделение госпиталя несколько больных, небезосновательно подозреваемых в заражении чумой. В связи с этим событием, грозящим смертельной эпидемией, было принято решение в срочном порядке оборудовать бокс и изолировать в нем больных. Неудивительно, что эту работу и последующее наблюдение за больными организовал Владимир Петрович. По необходимости он был готов начать соответствующее состоянию больных лечение.
Больных с подозрением на чуму разместили в палате бокса, а Владимиру Петровичу и медсестре для проживания оборудовали соответственно ординаторскую и перевязочную. И началась их изолированная от всех жизнь. Выходили они с медсестрой из своих комнат в защитных прорезиненных костюмах, похожих на скафандры, с капюшонами, защитными очками и ватно-марлевыми масками и в таком виде направлялись в больничную палату. Костюмы плохо пропускали воздух, работать в них было крайне тяжело. После общения с больными тщательно дезинфицировали скафандры в специальном помещении и только затем, мокрые с ног до головы, возвращались к себе в комнаты и освобождались от резиновых панцирей. И так бессменно день за днем, подвергаясь смертельной опасности. Пищу и прочее им проносили через тамбур-фильтр и подавали в маленькое окошко. И забирали у них материал для проведения анализов. Владимир Петрович каждый день докладывал начальнику госпиталя о самочувствии больных и протекании окончательно не установленной болезни.