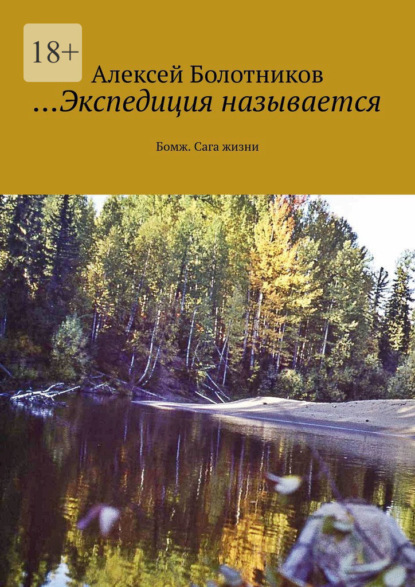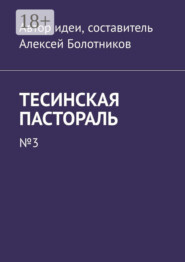По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…Экспедиция называется. Бомж. Сага жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, стало быть, ничего… – пробормотал озадаченный человек – и совсем уже строгим тоном приказал – Пишите заявление! – но тут потрясенно замахал руками – Тудыть твою налево, не сейчас, не здесь! Знаете что, молодой человек, кажется, Евгений Сидорович?.. Если вы приняли решение, то у меня к вам солидное предложение: сейчас едем со мной к месту вашей работы, там всё оформляем, получаете комнату для проживания и завтра выходите на работу! Вы согласны? – таясь, он расплылся в ужасной улыбке, словно в предвкушении постыдного счастья от крамольного замысла. Вероятно, так Иуда предвкушал выгоду от сделки в тридцать сребреников… Кадровиком овладело необъяснимое. Чувство, способное сокрушить до зги, или вознести в райские чертоги? Необъяснимое и потому опасное, угрожающее, способное уничтожить обоих в пух и прах… Ему, на склоне лет живущему в одиночестве, холосто и бездетно, как папе Карло до сотворения Буратино, черте что могло взбрести в голову, и черте как ворохаться в ней. Но в сей момент тайна его, внезапное озарение ума, едва скрываемые каменным лицом, не обрушили потолок, не пошатнули стены кабинета отдела кадров.
Шкалику перехватило дыхание. Быстро закивал головой. Странная суетливость кадровика не озадачивала его – обрадовала до ощущения счастья! А внезапность грядущих перемен взволновала до дрожи в руках.
– В шахматы играете? – спросил кадровик, на мгновение замерев и вновь озарившись сладким прозрением. Рот его кривило гримаской постыдного удовольствия, как смакованьем глотка водки. А заплаканные глаза блеснули неожиданной дерзостью.
– Я… без поражений… Противники слабые. – медля, ответил Шкалик, не понимая ход его мысли.
– Вот и замечательно! Едемте! Идите во двор, нас ждёт белая «Волга», я закрою кабинет и… Да, вот ещё что: с нами поедет… Точнее, мы… поедем с шефом моим… Миркиным. На его «Волге»… Я спрошу разрешения… Вам не надо в туалет? Это там… – уже уходя, он указал рукой вдоль коридора. – Ждите у машины, Евгений… Фёдорович.
Шкалик подпёр спиной стену. Облапал гитару. Сумку с вещами кинул между ног. Тоннель экспедиционного коридора сузился в его глазах, как губы для засоса. Губы ли стиснуло в куриную гузку, как немытое оконце в торце коридора. Он ещё мгновение набирался духа, потом оттолкнул задницей прошлую жизнь.
Белая «Волга», служебное авто начальника экспедиции «Востсибуглеразведка» Миркина, маленького человечка в чёрном суконном пальто, в чёрной же каракулевой папахе, надвинутой на антрацитовую черноту глаз, секундным взглядом пронзивших Шкалика, вышла на трассу вдоль Ушаковки и набрала ход. Позади, как белая бурка на всаднике, взвихренная и трепещущая под напором ветра, незримой и бесплотной мощью атаковала колючая позёмка. Всадники погони, ангелы ли – неистовые, неукротимые – стремились вслед лошадиной силе, свистя и шелестя безрассудным гиком. Накренённая наперёд, вопреки законам инерции, по воле и силе самозабвения, ватага незримой погони составляла… могла составить… пассажирам салона почётный эскорт, когда вообразилась бы. Вообразилась их смертной угрозой, когда бы обнаружилась… Ровный гул над шоссе, словно гимн в таёжной чаще, не вызывал патетики чувств, Краткий пересвист рябчиковой семейки захлёбывался в полном безмолвии дикой кущи. В «Волге» не наблюдали серую позёмку, не слышали оратории леса и молчали. Шофёр и кадровик – в силу субординации, Шкалик как человек, подавленный поражением в правах. Миркин… Его появление возле «Волги», цепкий взгляд исподлобья, наторелая посадка в машину – деловитые и вальяжные телодвижения – в глазах Шкалика сиюсекундно возвеличили фигуру начальника до памятника. Папаху в салон машины внёс с ювелирной точностью, ноги – танцора в балетном па – легко и грациозно… Что-то распорядительное говорил шоферу, не глядя на него, но озирая окрестности.
Внезапно он ликом обернулся в сторону кадровика и укоризненно – резко произнёс:
– Можешь, Тюфеич, когда захочешь! Нашёл специалиста в мгновение ока, стоило тебя по матушке приголубить. И не обижайся: у меня тоже нервы… Подай им кадры – аки пирожки из печи. Раньше обходились как-то. А у тебя – внеплановая текучесть! Рыжов… на пенсию, Ковальчук спился… Ты мне статистику не порть! Работай! Кстати, откуда геолога-то взял? Что молчишь, молодой? С какой конторы он тебя переманил? – и всем телом полуобернулся на Шкалика.
Шкалик растерянно молчал. Кадровик выручил:
– Наш он, Яков Моисеевич. С политеха. Эти текучесть не портят. Приедем на базу, обустроим, с девушками познакомим. У меня на него большие надежды… Гитарист. В шахматы играет неплохо… Так, Евгений Карпович?
Шкалик смутился, но вида не подал и кадровика поправил:
– Борисович я… С политеха. Не подведу.
– Ах да, Борисович…
– Евгений? А по фамилии?
– Шкаратин.
– Не Борьки Шкаратина сынок? Хотя, где ты, а где Борька… Ну-ну, надеюсь, не из тех, кто… – тут Миркин замолчал. И все молчали. Груженый лесовоз пошатнул встречным ветром «Волгу» и взвихрил перспективу трассы туманной моросью.
…Багровое монголоидное лицо Миркина, сегодняшним утром обратившееся в лающего египетского сфинкса, Тюфеич не мог выбросить из головы. Как оно его пожирало!
– Настоящий кадровик – это отец родной, наставник. Он берёт кадр молодым спецом – парня, девицу, амбициозную женщину… и выращивает их до профи. – В начале разговора Миркин выглядел, как всегда, терпимо-сносным. – К примеру, тот же Щадов Михаил Иванович: паренёк из глуши, из провинции, а в отрасли не последний человек! Трест возглавляет! В Иркутске служит генера-а-альным директором востсибугля, и уже в столицу прочат – не последний человек! Будущий замминистра! Так его кто-то вырастил… Хорошие наставники потрудились! Сейчас плоды пожинают. У тебя есть такие в резерве? Лепи из них щадовых! Холь, лилей, пропесочивай!.. Чтобы не стыдно было в людях показывать. Отдача будет на старости лет. – он упёрся тяжёлым взглядом в переносицу кадровика и заговорил, словно заколачивая калёные гвозди в подсознание:
– Есть у тебя кадры, как… янтарные бусы, пусть даже из говёшек и конфеток?
– Из говёшек не получится – обиженно вставил Тюфеич.
– Это у говённого кадровика не получится! Говёшки, конфетки – всё органика. Как те же уголь, графит и алмаз. Ты же знаешь, что уголь и бриллианты – едва не братья родные…
– А если не получится? – лучше бы Тюфеич этого не говорил. Миркин побагровел и без того смуглым лицом до огородного буряка, набычился и – снизу-вверх – буром стал наскакивать на кадровика, оттесняя его к двери.
– Уйди с глаз долой! Пропади пропадом! Ты что мне свою профнепригодность демонстрируешь? Расписался в собственном бессилии! Пошёл вон из конторы! Не получится у него. Для пользы дела поработай с материалом-то, с гумусом или карбоном. В печь его посади, в воду куряй, об столб телеграфный выколоти, и присматривайся, приглядывай… как получается! И нечего мне тут руки хэнде хох раньше времени… – Своими руками он наглядно продемонстрировал гневный пыл и круто развернулся, возвратился к креслу. – А не получится – сотри в порошок и распыли в огороде. Всё польза будет. Иди. Готовься в Черемхово… Да работай с кадрами по-стахановски, иначе я тебя сам в порошок сотру. И скажи спасибо, что у меня сегодня благодушное настроение! Кадровик он, видите ли, из говёшек…
Пропесоченый до блеска слезы, Тюфеич молча покинул кабинет Миркина. Таким и встретился со Шкаликом…
Шины колёс шелестели по мокрому асфальту, точно шмелиный рой. Скорость на пустынной трассе шофёр держал предельную. «Волга» шуровала в пополуденном сумраке подобно камню из пращи: разбрызгивала атмосферу дня. Рассечённая взвесь солнца и светло-сиреневого тумана, бликующая оземь живыми тенями облаков, ластилась под колёса.
– Дорога до Черемхерово долгая… – внезапно деланно оживился Миркин – А не расписаться ли нам пулечку, мужички? Американку, на троих. Надеюсь, нынешние геологи политеха освоили преферанс?
– Нам запрещают. А я всегда… выигрываю. – отреагировал Шкалик, физически превозмогая прежнюю зажатость тела.
– Вот и отлично! Выигрывает он… – воодушевился Миркин – Но – для затравки – позвольте предложить вам по мерзавчику, а? Нет возражений? – Миркин сунул руки в бардачок машины и тотчас же извлёк в сумрак салона набор хрустальных стопок. И следом за ними, повторив манипуляции, – плоскую бутылочку коньяка «Плиска». Жёлто-зелёные лучики отсвета бликовали в его руках. Ловким движением пальцев свинтил пробку с бутылки и стал плескать коньяк в рюмки. Протянул Шкалику, кадровику. Налил себе.
– За приятное знакомство! – предложил тост.
Шкалик пребывал в странно-смятенном состоянии духа. Недавним утром он покинул общагу, снова прервал свою студенческую жизнь, похеренную деканатом навсегда. Направился на улицу Баррикад, в «Востсибуглеразведку», где, по слухам, геологам платили наибольшую в отрасли заработную плату. Подхватило его и мыслью о диапазоне поисков отца: прорва новых людей, мест… И не сахалин-колымские закрайки страны, а её центр, родные сибирские просторы. Он ещё и ещё раз возвращался к этой мысли. Озарение прошибло до слезинки. Затаённая надежда на встречу с отцом, посеянная мамой, в политехе залегла на дно, словно сундучок с драгоценным кладом. Сахалин и Кольский не разбудили её. Магадан и Мама не обнадежили. Время пришло… Встреча с кадровиком, а чуть позднее – с шефом Миркиным, ошеломительная езда на «Волге» в сторону неведомых миров – потрясали его переменами, от которых заходился дух. Что-то пугающе-странное таилось за всей этой цепью внезапностей. Знобило до дрожи.
«Памятник» Миркин впечатлением изумлённого Шкалика обращался в свойского человека, не чуждого человеческим страстям и слабостям: шуточки, преферанс, коньяк… Тюфеич, как эхо, вторил его напорам – резонировал. Он всё ещё испытывал подкожный озноб от захватившей врасплох внезапной мысли, пока коньяк не растворил напрочь душевную лихорадку.
Из бардачка «Волги» Миркин достал колоду карт. Быстро стасовал и стал подавать в руки. Уютная капсула салона, алкогольные градусы, те же карты, как магические атрибуты влияния, преобразили изначальную картину замкнутого мира.
В ближайшие полчаса выяснилось, что они ехали «в Черемховскую ГРП по производственной надобности»: Миркин – на вручение наград в честь грядущего праздника Великого Октября, а прихваченный им кадровик, который утром схлопотал нагоняй по вопросу текучести кадров, – на ревизию работы с персоналом партии. Шкалик же, внезапно появившийся и представленный Миркину, как «специалист с опытом», попал в машину по стечению благоприятных обстоятельств. То есть, разом решивший своим явлением все утренние разногласия Миркина и Тюфеича. Спасающий ситуацию «нехватки кадров» самым чудесным образом. И ставший вдруг краеугольным камнем потайного замысла кадровика, сидящего рядом, плохо сдерживающего остаточный мандраж.
Всплыл, при подъезде к Свирску, ещё один повод автомобильного вояжа. Доставка подарочка старикам Щадовым. После третьего «плискания» коньяка Миркин бросил карты на пол-игре… И стал обсуждать с шофером дорогу, уводящую с трассы. Последняя поездка в трест, встреча со Щадовым, как выяснялось, прежде всего и спровоцировала надобность сегодняшней поездки для Миркина. Михаил Иванович, государственный человек, иркутский земляк, некогда учившийся в Черемховском горном техникуме, не мог найти более эффективного способа решить небольшую семейную проблему. Миркин, в подчинении которого работала Черемховская партия, был, как нельзя кстати, приглашён в трест для… консультаций. Не была ли эта поездка спроворена единственно с целью доставки подарков?
Им предстояло свернуть с трассы в районе Свирска, паромом переплыть на ту сторону Ангары. Далее, на террасе речной поймы, лежала деревня Каменка, и ещё глубже – несколько домишек деревушки Бохан. В этих, забытых богом селеньицах, проживали родная мама Щадова, Мария Ефимовна, и сестра Тамара. На погосте покоился прах предков.
Миркин спохватился заново сдать карты на руки. Но в машине трясло, и игра не клеилась.
Шкалик втянулся в езду, освоился в машине настолько, что называл кадровика Петром Тимофеевичем и Миркина Яковом Моисеевичем. Да и у шофёра узнал имя собственное – Саша. Дрожь, растворенная коньяком, постепенно отпустила. В машине зубоскалили, рассказывали обычные житейские байки, анекдоты.
До Свирска домчали махом. На причале повезло: паром готовился к отплытию; загрузились, не покидая салона «Волги», и причалили вблизи самой Каменки. Переспросили дорогу на Бохан и покатили дальше почти по бездорожью. Преодолели речку Тарасу…
На дворе стояла поздняя осень, удручающая землю первыми холодами. Солнечная сирень небес испарилась. Иней тянувшихся вдоль трассы ЛЭП и окрестных кустарников лесостепи, в пойменной низинке сменился на искристо-сверкающие, словно гранённые бриллианты, куржаки на колхозных заборах и в кронах одиночных берёз. Да и те обильно осыпались и таяли под натиском полуденного солнца. Не от сполоха ли вороньих стай, срывающихся из берёзовых колков, будто шуганутых внезапной картечью? Не от собственной ли дрожи зябнущей шкуры землицы, равнодушно впадающей в зимнюю спячку? Не от иных ли причин, неисповедимых следствий божьего промысла?.. Сквозь индевеющее окно салона Шкалик видел хрустальных пичуг, замороженных в сетях куржака, зайчиков-лисичек и прочей диковинной твари, трепещущей в солнечных бликах. Зарисовать бы… Выскоблить натюрморты на отбеленной латуне горизонта… Сохранить в памяти. Оказывается, у человека есть более мощный арсенал художественного масштаба, кроме известного: холст, гравюра, резьба… Сокрыт до грядущего времени, до катарсиса?..
Марии Ефимовны не оказалось дома – приболела: увезли в больницу. Матюгнувшись и досадливо сплюнув перед соседями матери Щадова, Миркин угрюмо молчал в машине до Каменки. По указанному адресу, слава те, нашли Тамару Ивановну… с соседкой, наповадившейся пропадать тут часы и дни, так что обе словно прилипли друг к дружке. Пока Шкалик и Тюфеич, вслед за Сашей, обивали пороги туалета, согбенно притулившегося к кособокому сараю, Миркин обнял пожилую женщину, радушно улыбаясь, скороговоркой справлялся о здоровье и житье-бытье. Посочувствовал по поводу болезни мамы, вручил, с помпой, столичные подарки. Тамара Ивановна, сутулая, костистая женщина с обветренным лицом и по-домашнему тёплыми глазами, настойчиво приглашала в дом, на обед и свежевыгнанную «щадовку». В конечном итоге чувственно расстроилась, обматерила чинов, дары приносящих, и обиделась до слёз. Искренне обиделась, точно не приголубленная молодица. Но Миркин выдержал все поползновения сестры Щадова. Непреклонно откланялся! И ушёл… в деревянный нужник.
– Это ж надо: побрезговали… – гневливо шипела обиженная женщина, не стесняясь Шкалика, словно и не видя его. – Вон как зарвались! Людёв вокруг не видят, проволочники падлючие.
– Чё ты их так? – изумилась соседка, прикрывая рот рукой.
– А… Поисточили всю землю, как проволочник картошку. Всё им мало. Страну всё богатюют. А сами от народа-то оторвались как… Да пошли оне!
– Дак твой братик тоже там, средь первых ходют – едко подметила соседка.
– А я о чем? И тот мать радемую проведать брезговает! Правители… – из грязи в князи… Надоть снова страну эту на куски порвать, чтобы повывести шваль эту. С энтими незнамо как век доживать, хоть петлю на себя накладывай… – Соседка привычно прикрыла рот рукой. И перевела глаза на Шкалика.
– А ты чо рот разинул, тоже, небось, проволочник. Иди уж, не то будешь с бабами век вековать… Али останешься? Так мы тебя приласкаем!
Шкалик вспомнил о тёплой общаге. Почему-то – о шахматах. Черно-белых клетках, строго перемежающих фигуры обособленных персон. Студенческая жизнь вдруг припомнилась во всей её благости и устроенности. Маячащее будущее томило неизведанной тревогой. Он уже боялся новой внезапности, которая, не дай бо… обрушит всю эту череду непреходящего счастья, словно оборвавшийся сон.
Впечатлённый женским змеиным шипом, Шкалик ушел и сидел в машине, осмысливая услышанное: Какие злые… Страну порвать… Это как обидеться надо? Чего им тут не хватает? Свой дом, огород, куры квохчут… Может, без отцов выросли?» – Езда по колдобистой дороге не давала сосредоточиться на одной мысли.
В ГРП Миркина ждали. Предупреждённые звонком из экспедиции, чины и спецы ГРП, подглядывая в окно конторы, с утра накрыли столы в хоромах Храмцова. Готовили, как мирную баррикаду, торжественное собрание в актовом зале: водрузили на сцену трибуну со стаканом воды, срезали в бутылку из-под кефира цветы герани, развесили дежурные плакаты и вывески. Даже на улице оживили стену конторы уже снятым на зиму плакатом-лозунгом «Народ и партия едины».
Шкалику перехватило дыхание. Быстро закивал головой. Странная суетливость кадровика не озадачивала его – обрадовала до ощущения счастья! А внезапность грядущих перемен взволновала до дрожи в руках.
– В шахматы играете? – спросил кадровик, на мгновение замерев и вновь озарившись сладким прозрением. Рот его кривило гримаской постыдного удовольствия, как смакованьем глотка водки. А заплаканные глаза блеснули неожиданной дерзостью.
– Я… без поражений… Противники слабые. – медля, ответил Шкалик, не понимая ход его мысли.
– Вот и замечательно! Едемте! Идите во двор, нас ждёт белая «Волга», я закрою кабинет и… Да, вот ещё что: с нами поедет… Точнее, мы… поедем с шефом моим… Миркиным. На его «Волге»… Я спрошу разрешения… Вам не надо в туалет? Это там… – уже уходя, он указал рукой вдоль коридора. – Ждите у машины, Евгений… Фёдорович.
Шкалик подпёр спиной стену. Облапал гитару. Сумку с вещами кинул между ног. Тоннель экспедиционного коридора сузился в его глазах, как губы для засоса. Губы ли стиснуло в куриную гузку, как немытое оконце в торце коридора. Он ещё мгновение набирался духа, потом оттолкнул задницей прошлую жизнь.
Белая «Волга», служебное авто начальника экспедиции «Востсибуглеразведка» Миркина, маленького человечка в чёрном суконном пальто, в чёрной же каракулевой папахе, надвинутой на антрацитовую черноту глаз, секундным взглядом пронзивших Шкалика, вышла на трассу вдоль Ушаковки и набрала ход. Позади, как белая бурка на всаднике, взвихренная и трепещущая под напором ветра, незримой и бесплотной мощью атаковала колючая позёмка. Всадники погони, ангелы ли – неистовые, неукротимые – стремились вслед лошадиной силе, свистя и шелестя безрассудным гиком. Накренённая наперёд, вопреки законам инерции, по воле и силе самозабвения, ватага незримой погони составляла… могла составить… пассажирам салона почётный эскорт, когда вообразилась бы. Вообразилась их смертной угрозой, когда бы обнаружилась… Ровный гул над шоссе, словно гимн в таёжной чаще, не вызывал патетики чувств, Краткий пересвист рябчиковой семейки захлёбывался в полном безмолвии дикой кущи. В «Волге» не наблюдали серую позёмку, не слышали оратории леса и молчали. Шофёр и кадровик – в силу субординации, Шкалик как человек, подавленный поражением в правах. Миркин… Его появление возле «Волги», цепкий взгляд исподлобья, наторелая посадка в машину – деловитые и вальяжные телодвижения – в глазах Шкалика сиюсекундно возвеличили фигуру начальника до памятника. Папаху в салон машины внёс с ювелирной точностью, ноги – танцора в балетном па – легко и грациозно… Что-то распорядительное говорил шоферу, не глядя на него, но озирая окрестности.
Внезапно он ликом обернулся в сторону кадровика и укоризненно – резко произнёс:
– Можешь, Тюфеич, когда захочешь! Нашёл специалиста в мгновение ока, стоило тебя по матушке приголубить. И не обижайся: у меня тоже нервы… Подай им кадры – аки пирожки из печи. Раньше обходились как-то. А у тебя – внеплановая текучесть! Рыжов… на пенсию, Ковальчук спился… Ты мне статистику не порть! Работай! Кстати, откуда геолога-то взял? Что молчишь, молодой? С какой конторы он тебя переманил? – и всем телом полуобернулся на Шкалика.
Шкалик растерянно молчал. Кадровик выручил:
– Наш он, Яков Моисеевич. С политеха. Эти текучесть не портят. Приедем на базу, обустроим, с девушками познакомим. У меня на него большие надежды… Гитарист. В шахматы играет неплохо… Так, Евгений Карпович?
Шкалик смутился, но вида не подал и кадровика поправил:
– Борисович я… С политеха. Не подведу.
– Ах да, Борисович…
– Евгений? А по фамилии?
– Шкаратин.
– Не Борьки Шкаратина сынок? Хотя, где ты, а где Борька… Ну-ну, надеюсь, не из тех, кто… – тут Миркин замолчал. И все молчали. Груженый лесовоз пошатнул встречным ветром «Волгу» и взвихрил перспективу трассы туманной моросью.
…Багровое монголоидное лицо Миркина, сегодняшним утром обратившееся в лающего египетского сфинкса, Тюфеич не мог выбросить из головы. Как оно его пожирало!
– Настоящий кадровик – это отец родной, наставник. Он берёт кадр молодым спецом – парня, девицу, амбициозную женщину… и выращивает их до профи. – В начале разговора Миркин выглядел, как всегда, терпимо-сносным. – К примеру, тот же Щадов Михаил Иванович: паренёк из глуши, из провинции, а в отрасли не последний человек! Трест возглавляет! В Иркутске служит генера-а-альным директором востсибугля, и уже в столицу прочат – не последний человек! Будущий замминистра! Так его кто-то вырастил… Хорошие наставники потрудились! Сейчас плоды пожинают. У тебя есть такие в резерве? Лепи из них щадовых! Холь, лилей, пропесочивай!.. Чтобы не стыдно было в людях показывать. Отдача будет на старости лет. – он упёрся тяжёлым взглядом в переносицу кадровика и заговорил, словно заколачивая калёные гвозди в подсознание:
– Есть у тебя кадры, как… янтарные бусы, пусть даже из говёшек и конфеток?
– Из говёшек не получится – обиженно вставил Тюфеич.
– Это у говённого кадровика не получится! Говёшки, конфетки – всё органика. Как те же уголь, графит и алмаз. Ты же знаешь, что уголь и бриллианты – едва не братья родные…
– А если не получится? – лучше бы Тюфеич этого не говорил. Миркин побагровел и без того смуглым лицом до огородного буряка, набычился и – снизу-вверх – буром стал наскакивать на кадровика, оттесняя его к двери.
– Уйди с глаз долой! Пропади пропадом! Ты что мне свою профнепригодность демонстрируешь? Расписался в собственном бессилии! Пошёл вон из конторы! Не получится у него. Для пользы дела поработай с материалом-то, с гумусом или карбоном. В печь его посади, в воду куряй, об столб телеграфный выколоти, и присматривайся, приглядывай… как получается! И нечего мне тут руки хэнде хох раньше времени… – Своими руками он наглядно продемонстрировал гневный пыл и круто развернулся, возвратился к креслу. – А не получится – сотри в порошок и распыли в огороде. Всё польза будет. Иди. Готовься в Черемхово… Да работай с кадрами по-стахановски, иначе я тебя сам в порошок сотру. И скажи спасибо, что у меня сегодня благодушное настроение! Кадровик он, видите ли, из говёшек…
Пропесоченый до блеска слезы, Тюфеич молча покинул кабинет Миркина. Таким и встретился со Шкаликом…
Шины колёс шелестели по мокрому асфальту, точно шмелиный рой. Скорость на пустынной трассе шофёр держал предельную. «Волга» шуровала в пополуденном сумраке подобно камню из пращи: разбрызгивала атмосферу дня. Рассечённая взвесь солнца и светло-сиреневого тумана, бликующая оземь живыми тенями облаков, ластилась под колёса.
– Дорога до Черемхерово долгая… – внезапно деланно оживился Миркин – А не расписаться ли нам пулечку, мужички? Американку, на троих. Надеюсь, нынешние геологи политеха освоили преферанс?
– Нам запрещают. А я всегда… выигрываю. – отреагировал Шкалик, физически превозмогая прежнюю зажатость тела.
– Вот и отлично! Выигрывает он… – воодушевился Миркин – Но – для затравки – позвольте предложить вам по мерзавчику, а? Нет возражений? – Миркин сунул руки в бардачок машины и тотчас же извлёк в сумрак салона набор хрустальных стопок. И следом за ними, повторив манипуляции, – плоскую бутылочку коньяка «Плиска». Жёлто-зелёные лучики отсвета бликовали в его руках. Ловким движением пальцев свинтил пробку с бутылки и стал плескать коньяк в рюмки. Протянул Шкалику, кадровику. Налил себе.
– За приятное знакомство! – предложил тост.
Шкалик пребывал в странно-смятенном состоянии духа. Недавним утром он покинул общагу, снова прервал свою студенческую жизнь, похеренную деканатом навсегда. Направился на улицу Баррикад, в «Востсибуглеразведку», где, по слухам, геологам платили наибольшую в отрасли заработную плату. Подхватило его и мыслью о диапазоне поисков отца: прорва новых людей, мест… И не сахалин-колымские закрайки страны, а её центр, родные сибирские просторы. Он ещё и ещё раз возвращался к этой мысли. Озарение прошибло до слезинки. Затаённая надежда на встречу с отцом, посеянная мамой, в политехе залегла на дно, словно сундучок с драгоценным кладом. Сахалин и Кольский не разбудили её. Магадан и Мама не обнадежили. Время пришло… Встреча с кадровиком, а чуть позднее – с шефом Миркиным, ошеломительная езда на «Волге» в сторону неведомых миров – потрясали его переменами, от которых заходился дух. Что-то пугающе-странное таилось за всей этой цепью внезапностей. Знобило до дрожи.
«Памятник» Миркин впечатлением изумлённого Шкалика обращался в свойского человека, не чуждого человеческим страстям и слабостям: шуточки, преферанс, коньяк… Тюфеич, как эхо, вторил его напорам – резонировал. Он всё ещё испытывал подкожный озноб от захватившей врасплох внезапной мысли, пока коньяк не растворил напрочь душевную лихорадку.
Из бардачка «Волги» Миркин достал колоду карт. Быстро стасовал и стал подавать в руки. Уютная капсула салона, алкогольные градусы, те же карты, как магические атрибуты влияния, преобразили изначальную картину замкнутого мира.
В ближайшие полчаса выяснилось, что они ехали «в Черемховскую ГРП по производственной надобности»: Миркин – на вручение наград в честь грядущего праздника Великого Октября, а прихваченный им кадровик, который утром схлопотал нагоняй по вопросу текучести кадров, – на ревизию работы с персоналом партии. Шкалик же, внезапно появившийся и представленный Миркину, как «специалист с опытом», попал в машину по стечению благоприятных обстоятельств. То есть, разом решивший своим явлением все утренние разногласия Миркина и Тюфеича. Спасающий ситуацию «нехватки кадров» самым чудесным образом. И ставший вдруг краеугольным камнем потайного замысла кадровика, сидящего рядом, плохо сдерживающего остаточный мандраж.
Всплыл, при подъезде к Свирску, ещё один повод автомобильного вояжа. Доставка подарочка старикам Щадовым. После третьего «плискания» коньяка Миркин бросил карты на пол-игре… И стал обсуждать с шофером дорогу, уводящую с трассы. Последняя поездка в трест, встреча со Щадовым, как выяснялось, прежде всего и спровоцировала надобность сегодняшней поездки для Миркина. Михаил Иванович, государственный человек, иркутский земляк, некогда учившийся в Черемховском горном техникуме, не мог найти более эффективного способа решить небольшую семейную проблему. Миркин, в подчинении которого работала Черемховская партия, был, как нельзя кстати, приглашён в трест для… консультаций. Не была ли эта поездка спроворена единственно с целью доставки подарков?
Им предстояло свернуть с трассы в районе Свирска, паромом переплыть на ту сторону Ангары. Далее, на террасе речной поймы, лежала деревня Каменка, и ещё глубже – несколько домишек деревушки Бохан. В этих, забытых богом селеньицах, проживали родная мама Щадова, Мария Ефимовна, и сестра Тамара. На погосте покоился прах предков.
Миркин спохватился заново сдать карты на руки. Но в машине трясло, и игра не клеилась.
Шкалик втянулся в езду, освоился в машине настолько, что называл кадровика Петром Тимофеевичем и Миркина Яковом Моисеевичем. Да и у шофёра узнал имя собственное – Саша. Дрожь, растворенная коньяком, постепенно отпустила. В машине зубоскалили, рассказывали обычные житейские байки, анекдоты.
До Свирска домчали махом. На причале повезло: паром готовился к отплытию; загрузились, не покидая салона «Волги», и причалили вблизи самой Каменки. Переспросили дорогу на Бохан и покатили дальше почти по бездорожью. Преодолели речку Тарасу…
На дворе стояла поздняя осень, удручающая землю первыми холодами. Солнечная сирень небес испарилась. Иней тянувшихся вдоль трассы ЛЭП и окрестных кустарников лесостепи, в пойменной низинке сменился на искристо-сверкающие, словно гранённые бриллианты, куржаки на колхозных заборах и в кронах одиночных берёз. Да и те обильно осыпались и таяли под натиском полуденного солнца. Не от сполоха ли вороньих стай, срывающихся из берёзовых колков, будто шуганутых внезапной картечью? Не от собственной ли дрожи зябнущей шкуры землицы, равнодушно впадающей в зимнюю спячку? Не от иных ли причин, неисповедимых следствий божьего промысла?.. Сквозь индевеющее окно салона Шкалик видел хрустальных пичуг, замороженных в сетях куржака, зайчиков-лисичек и прочей диковинной твари, трепещущей в солнечных бликах. Зарисовать бы… Выскоблить натюрморты на отбеленной латуне горизонта… Сохранить в памяти. Оказывается, у человека есть более мощный арсенал художественного масштаба, кроме известного: холст, гравюра, резьба… Сокрыт до грядущего времени, до катарсиса?..
Марии Ефимовны не оказалось дома – приболела: увезли в больницу. Матюгнувшись и досадливо сплюнув перед соседями матери Щадова, Миркин угрюмо молчал в машине до Каменки. По указанному адресу, слава те, нашли Тамару Ивановну… с соседкой, наповадившейся пропадать тут часы и дни, так что обе словно прилипли друг к дружке. Пока Шкалик и Тюфеич, вслед за Сашей, обивали пороги туалета, согбенно притулившегося к кособокому сараю, Миркин обнял пожилую женщину, радушно улыбаясь, скороговоркой справлялся о здоровье и житье-бытье. Посочувствовал по поводу болезни мамы, вручил, с помпой, столичные подарки. Тамара Ивановна, сутулая, костистая женщина с обветренным лицом и по-домашнему тёплыми глазами, настойчиво приглашала в дом, на обед и свежевыгнанную «щадовку». В конечном итоге чувственно расстроилась, обматерила чинов, дары приносящих, и обиделась до слёз. Искренне обиделась, точно не приголубленная молодица. Но Миркин выдержал все поползновения сестры Щадова. Непреклонно откланялся! И ушёл… в деревянный нужник.
– Это ж надо: побрезговали… – гневливо шипела обиженная женщина, не стесняясь Шкалика, словно и не видя его. – Вон как зарвались! Людёв вокруг не видят, проволочники падлючие.
– Чё ты их так? – изумилась соседка, прикрывая рот рукой.
– А… Поисточили всю землю, как проволочник картошку. Всё им мало. Страну всё богатюют. А сами от народа-то оторвались как… Да пошли оне!
– Дак твой братик тоже там, средь первых ходют – едко подметила соседка.
– А я о чем? И тот мать радемую проведать брезговает! Правители… – из грязи в князи… Надоть снова страну эту на куски порвать, чтобы повывести шваль эту. С энтими незнамо как век доживать, хоть петлю на себя накладывай… – Соседка привычно прикрыла рот рукой. И перевела глаза на Шкалика.
– А ты чо рот разинул, тоже, небось, проволочник. Иди уж, не то будешь с бабами век вековать… Али останешься? Так мы тебя приласкаем!
Шкалик вспомнил о тёплой общаге. Почему-то – о шахматах. Черно-белых клетках, строго перемежающих фигуры обособленных персон. Студенческая жизнь вдруг припомнилась во всей её благости и устроенности. Маячащее будущее томило неизведанной тревогой. Он уже боялся новой внезапности, которая, не дай бо… обрушит всю эту череду непреходящего счастья, словно оборвавшийся сон.
Впечатлённый женским змеиным шипом, Шкалик ушел и сидел в машине, осмысливая услышанное: Какие злые… Страну порвать… Это как обидеться надо? Чего им тут не хватает? Свой дом, огород, куры квохчут… Может, без отцов выросли?» – Езда по колдобистой дороге не давала сосредоточиться на одной мысли.
В ГРП Миркина ждали. Предупреждённые звонком из экспедиции, чины и спецы ГРП, подглядывая в окно конторы, с утра накрыли столы в хоромах Храмцова. Готовили, как мирную баррикаду, торжественное собрание в актовом зале: водрузили на сцену трибуну со стаканом воды, срезали в бутылку из-под кефира цветы герани, развесили дежурные плакаты и вывески. Даже на улице оживили стену конторы уже снятым на зиму плакатом-лозунгом «Народ и партия едины».