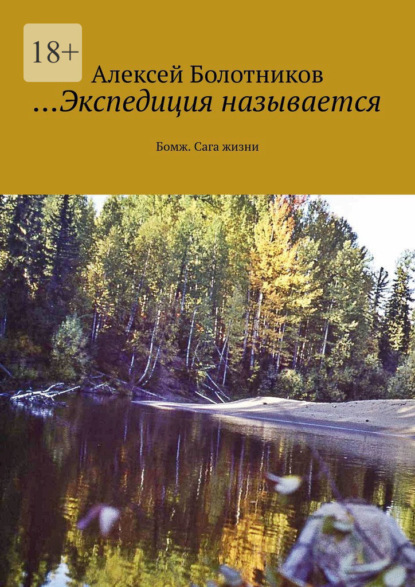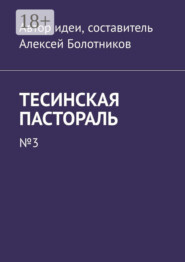По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
…Экспедиция называется. Бомж. Сага жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Давай, за…
– …за… что? – Лёша, вытирая слёзы, едва мог сдержать рвущийся наружу хохот.
– За успех предприятия! – решительно предложил Сашок.
– Давай. А какого предприятия?
– А за вашу халтурку.
Лёша подавил в себе смех, словно поперхнулся солёным огурцом. Секунды сидел, не решаясь на обдуманное действие.
– За халтурку, говоришь… Ух-ты! На что намекаешь?
– Какие намёки? Говорю, как есть. Выпьем за… удачное решение проблем с геофизикой.
– А прозвучало ядовито. Будто мы, итээры, с Синицыным-то, приворовываем.
– Я такого не говорил.
– А выпить предлагал.
– Так за успех…
– А давай за Павлика Морозова, если не за что больше? Впрочем, тот ещё герой… Ладно, мне работать надо. Извини… за компанию. – встал и ушёл.
Сашок тупо посмотрел ему вслед, слил оставшуюся «Плиску» в один стакан и допил.
Завернув на почту, Лёша в горячечной спешке набросал текст: «здесь прессуют тчк срочно езжай маме». Отправил телеграмму жене, и – следом – перевод на шесть рублей. На углу, в ожидании вахтовки, задумался. Кто послал Сашка? Храмцов? Кацияев? Может, Волчкова, в сговоре с главбухом? Калакина науськала, как профсоюзный босс? Или парторг Ахмадеев? Командировали из экспедиции? Все, кроме Храмцова, о халтуре знать не должны… ОБХСС не дремлет. Какой срок грозит за… сверхприбыли? Неужели могут посадить?
Как быть с Сашком?
Шкалик нашёл Танюшку по вешке – треноге теодолита, закреплённого на точке – вблизи неглубокого ложка: пряталась от холодного сквозняка. Высокая, плотная, медлительная «топографиня», разогревавшаяся каждый вечер на волейбольной площадке, с первой встречи понравилась Шкалику. В её облике – стройном, сдержанно-порывистом топольке – Женька Шкаратин увидел Люсю. Они обе, Люся и Танюшка, словно магнитные статуэтки, изящные, холодные, непостижимо тесно объединились, вызывая в нём удвоенное влечение. Люся – когда молча, одними глазами улыбалась, рассыпая искорки хрусталя. Танюшка – когда на секунду взвивалась над волейбольной сеткой, напрягаясь изящным телом, словно тетива лука. Люся – Танюшка… А он и не пытался делить их в памяти! Напротив, объединял в одну, лукаво-усмехающуюся над его неуклюжей любовью.
С первого взгляда он принял её собственной душой – за радость зримую – и с охотой ходил за нею по Харанору, и здесь, с рейкой. Отсчитывал шаги, бросал под ноги голыш-пятку, пытался, преодолевая порывы сквозняка, держать рейку строго вертикально. Танюшка работала, не спеша: теодолит не терпит суеты. Брать отсчёты мешала противная дрожь в окуляре – ветер… И она подолгу льнула к окулярам, подозрительно долго.
Заждавшись, она не шевельнулась на шум явившегося Шкалика. Словно заждавшись там, на кровати в общежитии, – как в тот первый порыв Шкалика подкатиться под бочок. Вечером, влекомый сладкой тягой, будто бы полётом в фантастическом сне, вернувшись вдвоём с Танюшкой с волейбольной площадки, он протиснулся следом за ней, в девичью комнату, и оттеснил от двери, и пылал стыдом, и блаженно молчал на её каменное безмолвие. И так же пытался примоститься в кровати, куда она, тяготясь его присутствием, легла. Таня, казалось, не удивилась. Возможно, не нашла слов возмущения. Может быть, ожидала продолжения его наглости… На второй-третий вечер сцены их встреч в её комнате не грешили поисками новых мизансцен. Протискивался за нею, пожирал глазами, падал за нею в постель и – оба молчали.
…Найдя Танюшку в ложбинке, Шкалик совсем как в общежитии, подкатился под бочок со спины, приобнял свою «топографиню»… Не шелохнулась.
Извечный даурский сквознячок не задувало в ложбинку. Пригревало полуденное солнышко. Неподалёку, словно, нестройное скрипичное соло, подыгрывающее степному шелесту ковылей, попискивали хомячки-пищуги.
Медленно, настойчиво и прилагая повышенные усилия, Шкалик, пытался развернуть Танюшку к себе: точно, как в той кровати… Живая и жаркая, совершенно непостижимая, будто тайна египетской мумии, она не реагировала. И не упиралась. Под силой его руки повернулась – колода-колодой – и продолжала бесстрастно, с закрытыми глазами и крепко сцепленными губами, безмолвствовать. Шкалика потрясывало. Наглея, он стал копаться в пуговицах её фуфайки… Проник рукою к телу… Танюшка едва заметно напряглась. Эта, слабо заметная девичья реакция, возбудила Шкалика совершенно. Он резко повернул девицу на спину и лёг сверху… Она отвернула лицо… Но Женька жадно впился в губы, пытаясь вызвать в ней ответное чувство… Таня не отвечала. Даже не кривилась на драконий дух изо рта его. Расстёгнутая фуфайка ничего не решала. Его рука опустилась вдоль тела, загребая в ладонь рубашку, проникая под резинку неглиже…
Сквозь нескончаемую музыку степи молодые любовники услышали шум приближающейся каротажки. Лёха Гуран вёз горячий чай к обеду.
Шкалик резко отвалился с танюшкиного тела и пополз вдоль долинки, словно лермонтовский Руслан, преследуемый злой Наиной. Через десяток метров он неожиданно наткнулся на… овцу. Бедное животное, провалилось в одну из брошенных буровиками скважин. Погрузившись в забой наполовину, бессильно побарахтавшись несколько дней, ожидала своей худшей участи. Шкалик вскочил, вышел на бортик долинки и замахал руками Лёшке Гурану.
– Геолухи… проклятые… – пробормотал Гуран, увидев этакую потрясающую картинку. – Ну чо вы везде лезете.
– Вроде живая, – отреагировал Шкалик.
Из каротажки попрыгали Родя с Митричем и девчонки-магниторазведчицы. Они обступили яму с овцой… К ним молча присоединилась Танюшка Нарва.
– Ой, ну что вы стоите… – возмутилась Люся Ходырева. – Она ещё живая, спасать надо!
Шкалик с Гураном схватили овцу за шерсть и легко вынули из забоя. Затем Лёшка Гуран верхонкой сбил глину с её шерсти и унёс несчастную овечку в салон каротажки.
– Так, Лёша… Выходишь, выкормишь… А на завершение сезона привезёшь нам рёбрышек на шашлычки… Договорились? – Лёша Бо не спрашивал, но приказал. Лёшка Гуран молча ушёл в кабину. По его ропоту, внутреннему негодованию и ещё чёрт знает по каким приметам, Лёша Бо понял, что, завершив сезон, празднуя отвальную, геологи не дождутся от Гурана ни бараньих рёбрышек, ни курдючного сала, ни даже рогов овечьих.
Девчонки разложили сумку с продуктами.
– Кто чай пить будет?
– Я не буду. – Лёха Гуран и тут неожиданно забастовал. Он, сидя спиной к колесу каротажки, ковырял самодельным ножом степной дёрн и всем своим видом выражал обиду и неудовольствие за… За что только? За овцу, едва не сдохшую в скважине? За частую езду без тормозов? За нужду якшаться с геологическими пришельцами, к которым сам пришёл наниматься на работу? За поруганную землю, за испуганную степь, за нарушенный вековой покой его милой вотчины?.. Сам, наверное, не знал и не мог осознать – за что ему выражать свой тихий протест понаехавшим в харанорскую долину чужакам. Коричнево-смуглое его лицо и без солнечного загара темнело в тени каротажки гневом вскипающей крови.
Он не знал будущего, не мог увидеть свой край в картинах мира, которые вот-вот, в ближайшую четверть века, да и во весь век, проявятся антропогенно-индустриальными образами перемен. Железо, стекло, бетон и химические конструкции встанут здесь, в антураже бесконечной живой степи, мертвящими монстрами. Высосут озеро и реки-ручьи, вспашут зыбкий супесчаный целик, а самые голубые небеса заслонят арматурно-архитектурным хаосом…
И хорошо, что не знал. Ибо не батыр Лёха, не батыр… Незримо стекает с него гуранская кровь и впитывается в угольные пласты… Зря читал в школе улигеры про бедного Улунтуя и сопливого Нюргая, выросших и побеждавших фантастических чудовищ. Зря заучивал наизусть благородные и благословенные истины тхеравады. Впитаны в кровь, не впитаны – в сердце бушуют гневом и состраданием одновременно, как бараны, столкнувшиеся рогами.
Неужто и живет – зря?
Напились чаю, разъехались, разошлись… Работать надо.
Глава третья. Киевская псалтирь и безумства любви
«Если ударить металлическим молотком по камню, то он рассыплется в щепки». Неизвестный умник
Тоненькими пальчиками, годными только при курении болгарских сигарет, она вертела кусочек парафиновой свечи, формируя из него кубик. Задумалась над чем-то, полулёжа на кровати, ноги в резиновых сапожках – на стуле. Хмурые глазки, обиженные чем-то губки…
В день приезда сменной вахты Лёша Бо, как старший геолог, отправился посвящать новенькую специалистку Валю Фролову в тайны харанорской геологии. Объяснять на пальцах легенду региона, особенности описания и отбора проб угольного керна, то да сё… Мало-мальские навыки, без которых нельзя документировать керн скважин. Валя – новоиспечённая выпускница, ей наставник позарез нужен. Не то напорет в пикетажке что-нибудь лишнее. Все через это проходят. Но по-разному.
Застав девушку за скульптурным рукоделием, в позе натурщицы эпохи соцреализма, Лёша Бо смутился, но вида не подал. Не особенно устыдилась и Валя. Бесцеремонное вторжение парня в девичьи покои не удивило её: не впервой. Однако ножки со стула сняла, села в кровати, словно переменившая позу модель.
Валю Фролову созидали не родители – боги. Отшлифовали её формы до скульптурной изящности, выписали голубизну глаз и алость щёк с иконописных образцов, пугая глаз окружающих излишне нежной хрупкостью и беззащитностью конституции.
Валя выбрала для жизни геологический хлеб. Вероятно, как и многие, прельстившись романтикой профессии, и ничего не подозревая о её изнанке. А кто напрочь избавлен от юношеских заблуждений?
Девчонки-геологини, толстушки или худосочные, бойкущие или скромняги, пришедшие в профессию ошибочно или жертвами династии, а вовсе не божьим промыслом, не осознанным выбором, обречённо привыкали к мысли об избранной судьбе. Иных заманило призвание. И те и иные, притираясь к углам камералки и полевым условиям, привыкали, воодушевлялись или угнетались в пылу каждодневной суеты, не избавленной от малых прелестей и неизбежных тягот. Вокруг толпились мужики, зачастую не рыцари и галантные кавалеры, но грубоватые мужланы, а то и хамовитые снобы, инфантильные недоросли, неуклюжие пацаны… К каждому нужно приноравливаться – коллеги. Приноравливаться к ветру и солнцу, к буровому балку, керновым ящикам и прокуренной вахтовке, к стеганной робе и тяжёлым прахарям. К неизбежному, как соль земли, мату-перемату…
Мужикам приходилось приноравливаться к девчонкам. Как умели.
Лёша, застав наставницу в кровати, смутился, попятился, попросил её зайти в камералку. Наставлять лучше на буровой, у кернового ящика, но начать лучше из конторы.
– Извини… ворвался к тебе. А где девчонки?
– В Борзю уехали. Люсиного мужа провожать. Его в Букачачу командировали на месяц.
– Мужа в Букачачу, а жена… хм…
– …за… что? – Лёша, вытирая слёзы, едва мог сдержать рвущийся наружу хохот.
– За успех предприятия! – решительно предложил Сашок.
– Давай. А какого предприятия?
– А за вашу халтурку.
Лёша подавил в себе смех, словно поперхнулся солёным огурцом. Секунды сидел, не решаясь на обдуманное действие.
– За халтурку, говоришь… Ух-ты! На что намекаешь?
– Какие намёки? Говорю, как есть. Выпьем за… удачное решение проблем с геофизикой.
– А прозвучало ядовито. Будто мы, итээры, с Синицыным-то, приворовываем.
– Я такого не говорил.
– А выпить предлагал.
– Так за успех…
– А давай за Павлика Морозова, если не за что больше? Впрочем, тот ещё герой… Ладно, мне работать надо. Извини… за компанию. – встал и ушёл.
Сашок тупо посмотрел ему вслед, слил оставшуюся «Плиску» в один стакан и допил.
Завернув на почту, Лёша в горячечной спешке набросал текст: «здесь прессуют тчк срочно езжай маме». Отправил телеграмму жене, и – следом – перевод на шесть рублей. На углу, в ожидании вахтовки, задумался. Кто послал Сашка? Храмцов? Кацияев? Может, Волчкова, в сговоре с главбухом? Калакина науськала, как профсоюзный босс? Или парторг Ахмадеев? Командировали из экспедиции? Все, кроме Храмцова, о халтуре знать не должны… ОБХСС не дремлет. Какой срок грозит за… сверхприбыли? Неужели могут посадить?
Как быть с Сашком?
Шкалик нашёл Танюшку по вешке – треноге теодолита, закреплённого на точке – вблизи неглубокого ложка: пряталась от холодного сквозняка. Высокая, плотная, медлительная «топографиня», разогревавшаяся каждый вечер на волейбольной площадке, с первой встречи понравилась Шкалику. В её облике – стройном, сдержанно-порывистом топольке – Женька Шкаратин увидел Люсю. Они обе, Люся и Танюшка, словно магнитные статуэтки, изящные, холодные, непостижимо тесно объединились, вызывая в нём удвоенное влечение. Люся – когда молча, одними глазами улыбалась, рассыпая искорки хрусталя. Танюшка – когда на секунду взвивалась над волейбольной сеткой, напрягаясь изящным телом, словно тетива лука. Люся – Танюшка… А он и не пытался делить их в памяти! Напротив, объединял в одну, лукаво-усмехающуюся над его неуклюжей любовью.
С первого взгляда он принял её собственной душой – за радость зримую – и с охотой ходил за нею по Харанору, и здесь, с рейкой. Отсчитывал шаги, бросал под ноги голыш-пятку, пытался, преодолевая порывы сквозняка, держать рейку строго вертикально. Танюшка работала, не спеша: теодолит не терпит суеты. Брать отсчёты мешала противная дрожь в окуляре – ветер… И она подолгу льнула к окулярам, подозрительно долго.
Заждавшись, она не шевельнулась на шум явившегося Шкалика. Словно заждавшись там, на кровати в общежитии, – как в тот первый порыв Шкалика подкатиться под бочок. Вечером, влекомый сладкой тягой, будто бы полётом в фантастическом сне, вернувшись вдвоём с Танюшкой с волейбольной площадки, он протиснулся следом за ней, в девичью комнату, и оттеснил от двери, и пылал стыдом, и блаженно молчал на её каменное безмолвие. И так же пытался примоститься в кровати, куда она, тяготясь его присутствием, легла. Таня, казалось, не удивилась. Возможно, не нашла слов возмущения. Может быть, ожидала продолжения его наглости… На второй-третий вечер сцены их встреч в её комнате не грешили поисками новых мизансцен. Протискивался за нею, пожирал глазами, падал за нею в постель и – оба молчали.
…Найдя Танюшку в ложбинке, Шкалик совсем как в общежитии, подкатился под бочок со спины, приобнял свою «топографиню»… Не шелохнулась.
Извечный даурский сквознячок не задувало в ложбинку. Пригревало полуденное солнышко. Неподалёку, словно, нестройное скрипичное соло, подыгрывающее степному шелесту ковылей, попискивали хомячки-пищуги.
Медленно, настойчиво и прилагая повышенные усилия, Шкалик, пытался развернуть Танюшку к себе: точно, как в той кровати… Живая и жаркая, совершенно непостижимая, будто тайна египетской мумии, она не реагировала. И не упиралась. Под силой его руки повернулась – колода-колодой – и продолжала бесстрастно, с закрытыми глазами и крепко сцепленными губами, безмолвствовать. Шкалика потрясывало. Наглея, он стал копаться в пуговицах её фуфайки… Проник рукою к телу… Танюшка едва заметно напряглась. Эта, слабо заметная девичья реакция, возбудила Шкалика совершенно. Он резко повернул девицу на спину и лёг сверху… Она отвернула лицо… Но Женька жадно впился в губы, пытаясь вызвать в ней ответное чувство… Таня не отвечала. Даже не кривилась на драконий дух изо рта его. Расстёгнутая фуфайка ничего не решала. Его рука опустилась вдоль тела, загребая в ладонь рубашку, проникая под резинку неглиже…
Сквозь нескончаемую музыку степи молодые любовники услышали шум приближающейся каротажки. Лёха Гуран вёз горячий чай к обеду.
Шкалик резко отвалился с танюшкиного тела и пополз вдоль долинки, словно лермонтовский Руслан, преследуемый злой Наиной. Через десяток метров он неожиданно наткнулся на… овцу. Бедное животное, провалилось в одну из брошенных буровиками скважин. Погрузившись в забой наполовину, бессильно побарахтавшись несколько дней, ожидала своей худшей участи. Шкалик вскочил, вышел на бортик долинки и замахал руками Лёшке Гурану.
– Геолухи… проклятые… – пробормотал Гуран, увидев этакую потрясающую картинку. – Ну чо вы везде лезете.
– Вроде живая, – отреагировал Шкалик.
Из каротажки попрыгали Родя с Митричем и девчонки-магниторазведчицы. Они обступили яму с овцой… К ним молча присоединилась Танюшка Нарва.
– Ой, ну что вы стоите… – возмутилась Люся Ходырева. – Она ещё живая, спасать надо!
Шкалик с Гураном схватили овцу за шерсть и легко вынули из забоя. Затем Лёшка Гуран верхонкой сбил глину с её шерсти и унёс несчастную овечку в салон каротажки.
– Так, Лёша… Выходишь, выкормишь… А на завершение сезона привезёшь нам рёбрышек на шашлычки… Договорились? – Лёша Бо не спрашивал, но приказал. Лёшка Гуран молча ушёл в кабину. По его ропоту, внутреннему негодованию и ещё чёрт знает по каким приметам, Лёша Бо понял, что, завершив сезон, празднуя отвальную, геологи не дождутся от Гурана ни бараньих рёбрышек, ни курдючного сала, ни даже рогов овечьих.
Девчонки разложили сумку с продуктами.
– Кто чай пить будет?
– Я не буду. – Лёха Гуран и тут неожиданно забастовал. Он, сидя спиной к колесу каротажки, ковырял самодельным ножом степной дёрн и всем своим видом выражал обиду и неудовольствие за… За что только? За овцу, едва не сдохшую в скважине? За частую езду без тормозов? За нужду якшаться с геологическими пришельцами, к которым сам пришёл наниматься на работу? За поруганную землю, за испуганную степь, за нарушенный вековой покой его милой вотчины?.. Сам, наверное, не знал и не мог осознать – за что ему выражать свой тихий протест понаехавшим в харанорскую долину чужакам. Коричнево-смуглое его лицо и без солнечного загара темнело в тени каротажки гневом вскипающей крови.
Он не знал будущего, не мог увидеть свой край в картинах мира, которые вот-вот, в ближайшую четверть века, да и во весь век, проявятся антропогенно-индустриальными образами перемен. Железо, стекло, бетон и химические конструкции встанут здесь, в антураже бесконечной живой степи, мертвящими монстрами. Высосут озеро и реки-ручьи, вспашут зыбкий супесчаный целик, а самые голубые небеса заслонят арматурно-архитектурным хаосом…
И хорошо, что не знал. Ибо не батыр Лёха, не батыр… Незримо стекает с него гуранская кровь и впитывается в угольные пласты… Зря читал в школе улигеры про бедного Улунтуя и сопливого Нюргая, выросших и побеждавших фантастических чудовищ. Зря заучивал наизусть благородные и благословенные истины тхеравады. Впитаны в кровь, не впитаны – в сердце бушуют гневом и состраданием одновременно, как бараны, столкнувшиеся рогами.
Неужто и живет – зря?
Напились чаю, разъехались, разошлись… Работать надо.
Глава третья. Киевская псалтирь и безумства любви
«Если ударить металлическим молотком по камню, то он рассыплется в щепки». Неизвестный умник
Тоненькими пальчиками, годными только при курении болгарских сигарет, она вертела кусочек парафиновой свечи, формируя из него кубик. Задумалась над чем-то, полулёжа на кровати, ноги в резиновых сапожках – на стуле. Хмурые глазки, обиженные чем-то губки…
В день приезда сменной вахты Лёша Бо, как старший геолог, отправился посвящать новенькую специалистку Валю Фролову в тайны харанорской геологии. Объяснять на пальцах легенду региона, особенности описания и отбора проб угольного керна, то да сё… Мало-мальские навыки, без которых нельзя документировать керн скважин. Валя – новоиспечённая выпускница, ей наставник позарез нужен. Не то напорет в пикетажке что-нибудь лишнее. Все через это проходят. Но по-разному.
Застав девушку за скульптурным рукоделием, в позе натурщицы эпохи соцреализма, Лёша Бо смутился, но вида не подал. Не особенно устыдилась и Валя. Бесцеремонное вторжение парня в девичьи покои не удивило её: не впервой. Однако ножки со стула сняла, села в кровати, словно переменившая позу модель.
Валю Фролову созидали не родители – боги. Отшлифовали её формы до скульптурной изящности, выписали голубизну глаз и алость щёк с иконописных образцов, пугая глаз окружающих излишне нежной хрупкостью и беззащитностью конституции.
Валя выбрала для жизни геологический хлеб. Вероятно, как и многие, прельстившись романтикой профессии, и ничего не подозревая о её изнанке. А кто напрочь избавлен от юношеских заблуждений?
Девчонки-геологини, толстушки или худосочные, бойкущие или скромняги, пришедшие в профессию ошибочно или жертвами династии, а вовсе не божьим промыслом, не осознанным выбором, обречённо привыкали к мысли об избранной судьбе. Иных заманило призвание. И те и иные, притираясь к углам камералки и полевым условиям, привыкали, воодушевлялись или угнетались в пылу каждодневной суеты, не избавленной от малых прелестей и неизбежных тягот. Вокруг толпились мужики, зачастую не рыцари и галантные кавалеры, но грубоватые мужланы, а то и хамовитые снобы, инфантильные недоросли, неуклюжие пацаны… К каждому нужно приноравливаться – коллеги. Приноравливаться к ветру и солнцу, к буровому балку, керновым ящикам и прокуренной вахтовке, к стеганной робе и тяжёлым прахарям. К неизбежному, как соль земли, мату-перемату…
Мужикам приходилось приноравливаться к девчонкам. Как умели.
Лёша, застав наставницу в кровати, смутился, попятился, попросил её зайти в камералку. Наставлять лучше на буровой, у кернового ящика, но начать лучше из конторы.
– Извини… ворвался к тебе. А где девчонки?
– В Борзю уехали. Люсиного мужа провожать. Его в Букачачу командировали на месяц.
– Мужа в Букачачу, а жена… хм…