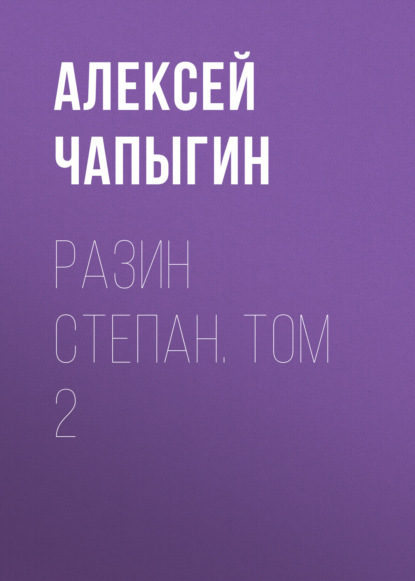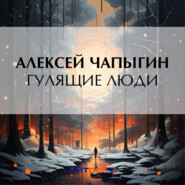По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дервиш, гудя священное, припрыгнул. Толпа с криком шатнулась за ним, махая саблями.
– Остойся мало!
Лазунка выстрелил: лицо дервиша перекосилось, пулей выбило зубы, разворотило подбородок и щеку. Пустив столб песка, дервиш тяпнул сидя:
– Ихтият кун!
– Голубой черт!
Толпа, расстроившись, отступила. Сережка прыгнул за толпой. Два круга сделала сабля, два трупа, кровеня песок, поклонились без голов в землю.
– Вместях ладнее, Сергей! Не забегай…
– Эх, Лазунка, силу я чую в себе такую, что готов один идти на шелкопрядов!
– Много их… Когда бусурманин поет суру, то головой не дорожит.
– Не то видишь ты! К батьке лезут… С Лавреем бери атамана в челн, узришь, бой полегчает!
– Ой, ужли впрямь один хошь побить тезиков? Мотри, жарко зачнет тебе… Худо козаки дерутся; стрельцы и лучше, да трусят.
– Голова атамана дороже моей! Велю – бери! Свезешь – вернись. И мы их загоним в горы!
– Мотри, Сергей! Жаль тебя!
– Бери! Устою с козаками.
Лазунка, держа саблю в зубах, с другим ближним казаком, завернув в кафтан, унесли атамана; остались на ковре шапка и сабля Разина. Как только ушел Лазунка и плеск воды послышался Сережке, он понял, что напрасно отпустил товарища. Не понимая слов, услыхал радостные голоса персов:
– Бежал, голубой черт!
– Бежал.
– Бисйор хуб!
Персы решили покончить с казаками. С десяток или полтора казаков рубились по бокам, но есаул, не оглядываясь, знал, что тот убит, а этот ранен. Стрельцы мало бились на саблях, стреляя, пятились к челнам, и некоторые вскочили к Лазунке в челн; не просясь, сели в гребли. Сережка легко бы мог пробиться, уйти, но покинуть беспомощно-пьяных на смерть не хотелось, он крикнул:
– Лазунка! Скорей вертайся!
– Скоро-о я-а!..
– А, дьяволы! Не един раз бывал в зубах у смерти – стою!..
Персы нападали больше на казаков. Сережки боялись, перед ним росли трупы, и куда бросался он, там его сабля играючи снимала головы. В него стреляли – промахнулись. Есаул, забыв опасность, упрямо сдерживал разгром разинцев. Видя в есауле помеху, высокий перс с желтым, как дубленая кожа, лицом что-то закричал, отстранив толпу армян и персов, схватив топор дервиша, выступил на Сережку. Перс уж был в бою; с его длинной бороды капала кровь. Сережка сделал шаг назад. Перс, поспешно шагнув, занес топор, сверкнула с визгом сабля. Перс зашатался от удара, но клинок сабли есаула, ударив по топору, отлетел прочь.
– Сотона-а! – Есаул прыгнул, хрястнули кости, перс, воя, осел: Сережка рукояткой сабли разбил ему череп.
Толпа, рыча, напирала, увидав, что есаул безоружен. Сережка, скользя глазом по земле, быстро припав на колено, схватил атаманскую саблю, но из торопливой руки рукоятка вывернулась. Ловя саблю, Сережка еще ниже нагнулся. От амбара черной кошкой мелькнул малыш, сунул есаулу меж лопаток острый клинок, по-обезьяньи скоро сверкнув сталью, мазнул по уху и, зажав в кулачонко золото с куском уха, исчез за амбаром. С огнем во всем теле, рыгнув кровью, есаул хотел встать и не мог. Сильные руки все глубже зарывались в песке, тяжелело тело, никло к земле.
– Сергея кончили, браты!
– Уноси ноги!
Казаки и стрельцы, отбиваясь, вскакивали в челны, из челнов стреляли, давая ход тем из своих, кто мог отступить. Синее быстро становилось черным. Черные люди, сбрасывая чалмы, встали на берегу в ряд.
– Бисмиллахи рахмани рахим!
Персы натирали грудь, голову и руки песком, делая намаз.
13
Разин сидит у огня. Лазунка кидает в огонь траву, прутья кустов. Дым прогоняет комаров, тучей подступающих из болота, разделившего на два куска полуостров Миян-Кале, шахов заповедник. Лекарь-еврей, лечивший Мокеева, отпущен. Он привез от атамана записку, где было указано:
«А минет в жидовине нужда, то спустить его на берег. В путь ему дать три тумана перскими деньгами, хлеба дать на день, сухарей. Сей человек честно служил мне, и не чинить ему, кроме ласки, иного…
Разин Степан».
Еврей сказал Сукнину:
– Лечить, атаман, тут некого. Пускай лишь козаки не пьют соленой воды да огни жгут, очищая от мух воздух. Мухи заражают ядом болота воздух, воздух порождает лихорадку, что и зовете вы трясцой.
– Мух нет, лекарь, то комары многих величин…
– Я ж зову их мухой… Здесь туманы часты, но лечить некого. Надо переменить место. Парши на людях, – еда скудна, оттого. Солнце жарко, мухи бередят парши, и человек болеет проказой, – того в этих местах много… Гораздо шелудивых удалить надо!
Кроме Разина, у огня сидят: Федор Сукнин с желтым лицом, он кутается в шубу, дрожит, Лазунка неустанно возится с огнем, да новые есаулы, Черноусенко и Степан Наумов – крепкий широкоплечий казак, похожий на самого Разина.
Разин глубоко вздохнул, поднял голову, обвел всех глазами и снова поник.
– Сказывай, Федор, не крась словом, – про все говори, про себя тоже не таи, не лги… Я же про себя скажу всю правду.
– А давно ты знаешь, Степан Тимофеевич, – словом я прям!.. Начну с того, что зиму тут жить можно, зима здесь – наше лето, лето уже в этих местах черту по шкуре, человеку нашему тут летом живу-здраву не быть… Из болот злой туман падает, и как довел жидовин – все правда: комары воздух травят, туманы ж несут лихоманку… Вишь, избило меня до костей, и ведаешь ты – крепок я был… Другое: кизылбаш взбесился; что ни ночь – вылазка, пришлось нам засеку, бурдюги кинуть, уплыть к морю за болото… И еще до тебя дни четыре-пять горец объявился, что сатану из земли отрыгнуло… Череп голый, едина коса, будто у запорожца, усы не то седы, не то буры, ходит в огне солнца без шапки и чалмы… Козаки лишь за пресной водой – горец тут и войско ведет… Бой, смерть!
– Знаю того горца! В Ряше обвел нас – за гилянского хана отмщает: визирь его…
– И вот как в Миян-Кале ты наехал – горца не стало, ушел в горы, войско увел! Мяса нам было много – били кабанов. Хлеба нет, соли, воды нет… Ясырь сплошь мереть зачал, и свез я тот робячий да бабий ясырь до единой головы на берег – от них ходит к козакам черная немочь. Козаки, стрельцы вздыбились, в обрат домой заговорили, к команде стали упрямы… Почали хватать струги и, как на Дону, походного атамана приберут да на берег за вином. Воды нет – пьют вино; иные, не чуя моего заказа, пьют морскую воду – чревом жалобят, потом и болести шире пошли.
– Что же лекарь?
– В твоей цедуле было указано дать ему денег, хлеба, спустить!
– Оно так… сказано слово.
– И лечить он не стал, указал переменить место.
– Делать тут нече – смерти, что ль, ждать? Эх, Федор! Удалые головушки засеяли проклятую землю… И не мудрой я был, что после гилянского хана бою пошел вперед…
– Не одному тебе, батько Степан, – всем хотелось вперед.
– Остойся мало!
Лазунка выстрелил: лицо дервиша перекосилось, пулей выбило зубы, разворотило подбородок и щеку. Пустив столб песка, дервиш тяпнул сидя:
– Ихтият кун!
– Голубой черт!
Толпа, расстроившись, отступила. Сережка прыгнул за толпой. Два круга сделала сабля, два трупа, кровеня песок, поклонились без голов в землю.
– Вместях ладнее, Сергей! Не забегай…
– Эх, Лазунка, силу я чую в себе такую, что готов один идти на шелкопрядов!
– Много их… Когда бусурманин поет суру, то головой не дорожит.
– Не то видишь ты! К батьке лезут… С Лавреем бери атамана в челн, узришь, бой полегчает!
– Ой, ужли впрямь один хошь побить тезиков? Мотри, жарко зачнет тебе… Худо козаки дерутся; стрельцы и лучше, да трусят.
– Голова атамана дороже моей! Велю – бери! Свезешь – вернись. И мы их загоним в горы!
– Мотри, Сергей! Жаль тебя!
– Бери! Устою с козаками.
Лазунка, держа саблю в зубах, с другим ближним казаком, завернув в кафтан, унесли атамана; остались на ковре шапка и сабля Разина. Как только ушел Лазунка и плеск воды послышался Сережке, он понял, что напрасно отпустил товарища. Не понимая слов, услыхал радостные голоса персов:
– Бежал, голубой черт!
– Бежал.
– Бисйор хуб!
Персы решили покончить с казаками. С десяток или полтора казаков рубились по бокам, но есаул, не оглядываясь, знал, что тот убит, а этот ранен. Стрельцы мало бились на саблях, стреляя, пятились к челнам, и некоторые вскочили к Лазунке в челн; не просясь, сели в гребли. Сережка легко бы мог пробиться, уйти, но покинуть беспомощно-пьяных на смерть не хотелось, он крикнул:
– Лазунка! Скорей вертайся!
– Скоро-о я-а!..
– А, дьяволы! Не един раз бывал в зубах у смерти – стою!..
Персы нападали больше на казаков. Сережки боялись, перед ним росли трупы, и куда бросался он, там его сабля играючи снимала головы. В него стреляли – промахнулись. Есаул, забыв опасность, упрямо сдерживал разгром разинцев. Видя в есауле помеху, высокий перс с желтым, как дубленая кожа, лицом что-то закричал, отстранив толпу армян и персов, схватив топор дервиша, выступил на Сережку. Перс уж был в бою; с его длинной бороды капала кровь. Сережка сделал шаг назад. Перс, поспешно шагнув, занес топор, сверкнула с визгом сабля. Перс зашатался от удара, но клинок сабли есаула, ударив по топору, отлетел прочь.
– Сотона-а! – Есаул прыгнул, хрястнули кости, перс, воя, осел: Сережка рукояткой сабли разбил ему череп.
Толпа, рыча, напирала, увидав, что есаул безоружен. Сережка, скользя глазом по земле, быстро припав на колено, схватил атаманскую саблю, но из торопливой руки рукоятка вывернулась. Ловя саблю, Сережка еще ниже нагнулся. От амбара черной кошкой мелькнул малыш, сунул есаулу меж лопаток острый клинок, по-обезьяньи скоро сверкнув сталью, мазнул по уху и, зажав в кулачонко золото с куском уха, исчез за амбаром. С огнем во всем теле, рыгнув кровью, есаул хотел встать и не мог. Сильные руки все глубже зарывались в песке, тяжелело тело, никло к земле.
– Сергея кончили, браты!
– Уноси ноги!
Казаки и стрельцы, отбиваясь, вскакивали в челны, из челнов стреляли, давая ход тем из своих, кто мог отступить. Синее быстро становилось черным. Черные люди, сбрасывая чалмы, встали на берегу в ряд.
– Бисмиллахи рахмани рахим!
Персы натирали грудь, голову и руки песком, делая намаз.
13
Разин сидит у огня. Лазунка кидает в огонь траву, прутья кустов. Дым прогоняет комаров, тучей подступающих из болота, разделившего на два куска полуостров Миян-Кале, шахов заповедник. Лекарь-еврей, лечивший Мокеева, отпущен. Он привез от атамана записку, где было указано:
«А минет в жидовине нужда, то спустить его на берег. В путь ему дать три тумана перскими деньгами, хлеба дать на день, сухарей. Сей человек честно служил мне, и не чинить ему, кроме ласки, иного…
Разин Степан».
Еврей сказал Сукнину:
– Лечить, атаман, тут некого. Пускай лишь козаки не пьют соленой воды да огни жгут, очищая от мух воздух. Мухи заражают ядом болота воздух, воздух порождает лихорадку, что и зовете вы трясцой.
– Мух нет, лекарь, то комары многих величин…
– Я ж зову их мухой… Здесь туманы часты, но лечить некого. Надо переменить место. Парши на людях, – еда скудна, оттого. Солнце жарко, мухи бередят парши, и человек болеет проказой, – того в этих местах много… Гораздо шелудивых удалить надо!
Кроме Разина, у огня сидят: Федор Сукнин с желтым лицом, он кутается в шубу, дрожит, Лазунка неустанно возится с огнем, да новые есаулы, Черноусенко и Степан Наумов – крепкий широкоплечий казак, похожий на самого Разина.
Разин глубоко вздохнул, поднял голову, обвел всех глазами и снова поник.
– Сказывай, Федор, не крась словом, – про все говори, про себя тоже не таи, не лги… Я же про себя скажу всю правду.
– А давно ты знаешь, Степан Тимофеевич, – словом я прям!.. Начну с того, что зиму тут жить можно, зима здесь – наше лето, лето уже в этих местах черту по шкуре, человеку нашему тут летом живу-здраву не быть… Из болот злой туман падает, и как довел жидовин – все правда: комары воздух травят, туманы ж несут лихоманку… Вишь, избило меня до костей, и ведаешь ты – крепок я был… Другое: кизылбаш взбесился; что ни ночь – вылазка, пришлось нам засеку, бурдюги кинуть, уплыть к морю за болото… И еще до тебя дни четыре-пять горец объявился, что сатану из земли отрыгнуло… Череп голый, едина коса, будто у запорожца, усы не то седы, не то буры, ходит в огне солнца без шапки и чалмы… Козаки лишь за пресной водой – горец тут и войско ведет… Бой, смерть!
– Знаю того горца! В Ряше обвел нас – за гилянского хана отмщает: визирь его…
– И вот как в Миян-Кале ты наехал – горца не стало, ушел в горы, войско увел! Мяса нам было много – били кабанов. Хлеба нет, соли, воды нет… Ясырь сплошь мереть зачал, и свез я тот робячий да бабий ясырь до единой головы на берег – от них ходит к козакам черная немочь. Козаки, стрельцы вздыбились, в обрат домой заговорили, к команде стали упрямы… Почали хватать струги и, как на Дону, походного атамана приберут да на берег за вином. Воды нет – пьют вино; иные, не чуя моего заказа, пьют морскую воду – чревом жалобят, потом и болести шире пошли.
– Что же лекарь?
– В твоей цедуле было указано дать ему денег, хлеба, спустить!
– Оно так… сказано слово.
– И лечить он не стал, указал переменить место.
– Делать тут нече – смерти, что ль, ждать? Эх, Федор! Удалые головушки засеяли проклятую землю… И не мудрой я был, что после гилянского хана бою пошел вперед…
– Не одному тебе, батько Степан, – всем хотелось вперед.