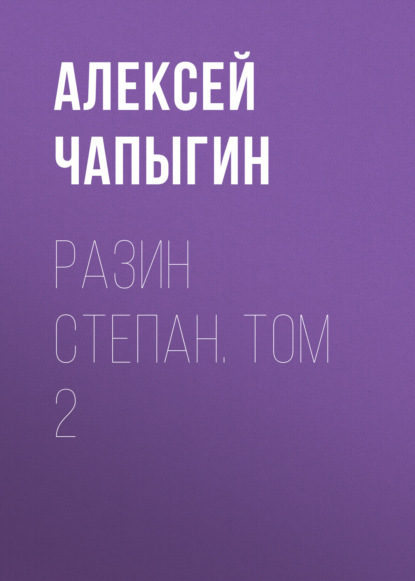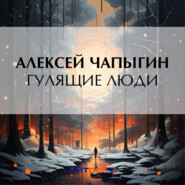По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот то оно – силу размыкать впусте!
– И так, Степан Тимофеевич, ежедень стало прилучаться: уплавят головушки за вином ли, хлебом ли, водой пресной, а горец на них засады да волчьи ямы, иной раз и опой – вина подсунет… Чтешь после того людей: из трех сот – сотня цела альбо и того меньше… Большой урон в боевых людях. Я же изныл душой и телом: сердцем по жене, дочкам, в снах их вижу на Яике, а телом от трясцы извелся…
– Заедино мало нас – спущу, Федор. Бери маломочных, плавь в Яик… Теперь же чуй, что я поведаю. И прощай… быть может, не видаться боле…
– Ну, уж и не видаться. Чую, батько Степан.
– При тебе, Федор, ронил я в бою с гилянским ханом двух удалых: Черноярца есаула с Волоцким…
– Да, то ведомо мне…
– Чуй дальше. Жалобил я по ним, а когда сердце болит – пью. Сергей, брат названой, с Петрой Мокеевым в та пору разобрали по каменю Дербень-город, привезли мне ясырку, как говорил Петра, шемаханскую царевну – бека шахова дочь… С ней живу, храню ее – память о богатыре Петре Мокееве… В гробу поминать буду – столь он люб мне. После Дербеня, чую, ропщут на меня, что не шлю послов шаху. Собрал я богатырей есаулов и спросил: правда ли то? Сказалось – правда: хотят к шаху идти проситься сесть на Куру. Не спущал я, ране знал, что добра от шаха не ждать, когда сами задрали его. Но воли ихней не снял – и каюсь! Шах Мокеева дал псам, Серебрякова отпустил, да вернул – казнил… Я ж в полоумии посек с горя невинного толмача… Слал лазутчиков – изведать, как было? Изведал, шах строит бусы на нас… А, дьявол! И грянул я на Фарабат – золотой шахов город – его утеху. Золота имали много, посекли тыщу и больше тезиков. Те лишь домы козаки оставили поверх земли, где люди крестились да Христа кликали… В Фарабате, хмельной гораздо, гинул дид Рудаков… Заполз бабру в клеть железну и ну над ним расправу чинить, – то на шаховом потешном дворе было… Зверя не кончил до смерти – кинулся с него шкуру тащить: теплая-де, сдирать легше. Куснул его, издыхая, бабр за голову, от того у старого Григорея череп треснул. Отселе пошли на Ряш-город, и за то по сю пору лаю себя! По Сережке ладил в море кинуться, да Лазунка меня в трюме замкнул. И грозил я ему. А потом, когда остыл, припустил к себе; боярский сын убаял: что-де не воротишь. Спас меня удалая голова Сергей – сам же кончен… Эх, черт! И как провели, обошли нас тезики: вина дали, накидали ковров, шелку. Вина с дурманом прикатили, так что два дни я ни рук, ни ног не чуял. Худоумием обуянный, будто робенок дался обману того горца, что и вас здесь обижал. Не надо было пить на берегу, а пуще нечего было щадить злой город! Проведал я нынче, что шах дал волю тому горцу нас извести до кореня… И плыл я сюда – пылало сердце: «Возьму от тебя людей, сровняю Ряш с землей». После пира в Ряше мало нас осталось: четыреста голов легло в окаянном городе. Сережка стоил тыщи голов козацких! И что же, душа упала, потухло сердце мое, когда узрел здесь полумертвый стан. Чую и вижу: люди бредят, иные, будто укушены черной смертью, бродят, ища, где пасть… Да, Федор, буду я крепок, затаю обиду: не пора нынче считаться с персами… Увезу проклятое золото, рухлядь и узорочье, кину средь своих людей: «Дуваньте, браты, клятое добро, взятое кровью храбрых!» Я – нищий с золотом! Сколь богатырей мне в посулы дал родной Дон, и всех их извел я, как лиходей неразумной, а дела впереди много… ох, много дела, Федор!
– Полно никнуть, батько Степан! Придешь на Русь да гикнешь, и вновь слетятся соколы.
– Эх, таковые уж не слетятся больше!..
В темноте перекликался дозор:
– Не-ча-а-й!..
– Не-ча-а-й!..
На носу косы Миян-Кале, ушедшей далеко в море, сутулясь, стоит широкоплечая черная тень человека; от черной волны, чуждо говорливой, сияющей на гребнях тускло-зеленым, в глазах черного человека – зеленый блеск. Храпит, бредит и дико поет земля за спиной атамана, лохматятся на густо-синем черные шалаши, мутно белеют палатки. Справа и слева косы в морском просторе, щетинясь, сереют комья стругов и громче, чем на суше, звучит «заказное слово»:
– Не-ча-а-й!..
– Не-ча-а-й!..
Черная фигура взмахнула длинной рукой; от страшного голоса, казалось, волны побежали прочь, в ширину моря.
– Гей, Стенько! Не спрямить сломанного – давай ломить дальше!
С тусклым лицом атаман повернулся, шагнув к палаткам:
– Гей, гой, соколы-ы! Пали огни, чини струги! С рассветом айда к Астрахани!
– О, то радость! Кинем землю проклятущую.
– Ставай, кто мочен! Жги огонь, бери топор!
Казалось, мертвое становище казаков не было силы поднять, – но голосу атамана-чародея послушное, встало, зашевелилось кругом. Затрещали, вспыхивая, огни. Лица, руки, синий балахон, красный кафтан замелькали в огнях. Забелели лезвия топоров, рукоятки сабель.
Раньше, чем уйти в палатку, Разин сказал негромко, и слышали его все вставшие на ноги:
– Дозор, готовь челны, плавь на струги, чтоб плыть к берегу починиваться.
– Чуем, Степан Тимофеевич!
Двинутые с берега челны загорелись зеленоватыми искрами брызг. На воде звонкие голоса кричали в черную ширину, ровную и тихую:
– Торо-пись!
– В Астрахань!
– А там на Дон, браты-ы!
На бортах стругов задымили факелы, перемещаясь и прыгая, выхватывая из сумрака лица, бороды, усы и запорожские шапки.
Часть третья
На воевод и царя
1
За столом – от царского трона справа – три дьяка склонились над бумагами.
Вошел любимый советник царя, боярин Пушкин, встал у дверей, поклонясь. Он ждал молча окончания читаемого царю донесения сибирского воеводы.
Русоволосый степенный дьяк с густой, лоснящейся шелком бородой громко и раздельно выговаривал каждое слово:
– «…старые тюрьмы велели подкрепить и жен и детей тюремных сидельцев, которые сосланы по твоему, великого государя, указу в Сибирь – сто одиннадцать человек, – велели посадить в старые тюрьмы».
Царь распахнул зарбафный кабат с жемчужными нарамниками, неторопливо приставил с боку трона узорчатый посох с крестом и, потирая правой рукой белый низкий лоб, сказал:
– Так их! Шли мужья, отцы к вору Стеньке за море, да и иных сговаривали тож… Сядь, дьяче. – Поманил рукой Пушкина: – Подойди, Иван Петрович! Тут – дела, кои до тебя есть.
Бородатый сутулый боярин, вскинув на царя узкие, глубоко запавшие глаза, шагнул к трону, отдав земной поклон:
– Из Патриарша приказа, великий государь, жалобу митрополита астраханского мне по пути вручили, а в ней вести, что воровской атаман Разин объявился у наших городов.
– Слышал уж я про то, боярин! И думно мне отписать к воеводам в Астрахань, Прозоровскому Ивану да князь Семену Львову, чтоб вскорости разобрали бы козаков Стеньки Разина по стрелецким приказам и держали до нашего на то дело повеления… – Подумав, царь прибавил: – И никакими меры на Дон их до нашего указу не спущать!..
– Не должно спустить на Дон тех козаков, государь… На Гуляй-поле много сбеглось холопов от Москвы и с иных сел, городов, оттого голод там, скудность большая… В Кизылбаши тянулись к Разину, а объявись Разин на Дону, и незамедлительно вся голытьба к ему шатнется. Он же, по слухам дьяков и сыскных людей, богат несметно… Мне еще о том доносил мой сыщик Куретников. Вот кто, великий государь, достоин всяческой хвалы, так этот подьячий… Достоканы[50 - Д о с т о к а н ы – доподлинно.], живучи в Персии, познал и язык и нравы – все доводил, и мы знали до мала, что круг шаха деется. Нынче мыслю я его там держать, да пошто-то грамоты перестали ходить… А зорок парень, ох, зорок!
– Очутится здесь – службу ему дадим по заслугам.
– Заслужил он тое почетную службу, великий государь! Слышно мне: много вор, Стенька Разин, пожег шаховых городов?
– Ох, много, боярин! И должно чаять от шаха нелюбья. Пишет мне стольник Петр Прозоровский, что шах, осердясь на разорение его городов грабителями, Стенькой Разиным с товарищи, собирает войско для подступа к Теркам, и нам, боярин, пуще всего нужно войско назрить… Шатости, грозы со всех сторон еще немало будет…
– Войско строить, и, по моему разумению, великий государь, неотложно!
– Теперь, боярин, хочу знать, чем жалобит богомолец мой астраханский.
Боярин передал русоволосому дьяку, наследнику Киврина, грамоту с черной монастырской печатью.
Дьяк Ефим, поклонившись царю, громко начал:
– И так, Степан Тимофеевич, ежедень стало прилучаться: уплавят головушки за вином ли, хлебом ли, водой пресной, а горец на них засады да волчьи ямы, иной раз и опой – вина подсунет… Чтешь после того людей: из трех сот – сотня цела альбо и того меньше… Большой урон в боевых людях. Я же изныл душой и телом: сердцем по жене, дочкам, в снах их вижу на Яике, а телом от трясцы извелся…
– Заедино мало нас – спущу, Федор. Бери маломочных, плавь в Яик… Теперь же чуй, что я поведаю. И прощай… быть может, не видаться боле…
– Ну, уж и не видаться. Чую, батько Степан.
– При тебе, Федор, ронил я в бою с гилянским ханом двух удалых: Черноярца есаула с Волоцким…
– Да, то ведомо мне…
– Чуй дальше. Жалобил я по ним, а когда сердце болит – пью. Сергей, брат названой, с Петрой Мокеевым в та пору разобрали по каменю Дербень-город, привезли мне ясырку, как говорил Петра, шемаханскую царевну – бека шахова дочь… С ней живу, храню ее – память о богатыре Петре Мокееве… В гробу поминать буду – столь он люб мне. После Дербеня, чую, ропщут на меня, что не шлю послов шаху. Собрал я богатырей есаулов и спросил: правда ли то? Сказалось – правда: хотят к шаху идти проситься сесть на Куру. Не спущал я, ране знал, что добра от шаха не ждать, когда сами задрали его. Но воли ихней не снял – и каюсь! Шах Мокеева дал псам, Серебрякова отпустил, да вернул – казнил… Я ж в полоумии посек с горя невинного толмача… Слал лазутчиков – изведать, как было? Изведал, шах строит бусы на нас… А, дьявол! И грянул я на Фарабат – золотой шахов город – его утеху. Золота имали много, посекли тыщу и больше тезиков. Те лишь домы козаки оставили поверх земли, где люди крестились да Христа кликали… В Фарабате, хмельной гораздо, гинул дид Рудаков… Заполз бабру в клеть железну и ну над ним расправу чинить, – то на шаховом потешном дворе было… Зверя не кончил до смерти – кинулся с него шкуру тащить: теплая-де, сдирать легше. Куснул его, издыхая, бабр за голову, от того у старого Григорея череп треснул. Отселе пошли на Ряш-город, и за то по сю пору лаю себя! По Сережке ладил в море кинуться, да Лазунка меня в трюме замкнул. И грозил я ему. А потом, когда остыл, припустил к себе; боярский сын убаял: что-де не воротишь. Спас меня удалая голова Сергей – сам же кончен… Эх, черт! И как провели, обошли нас тезики: вина дали, накидали ковров, шелку. Вина с дурманом прикатили, так что два дни я ни рук, ни ног не чуял. Худоумием обуянный, будто робенок дался обману того горца, что и вас здесь обижал. Не надо было пить на берегу, а пуще нечего было щадить злой город! Проведал я нынче, что шах дал волю тому горцу нас извести до кореня… И плыл я сюда – пылало сердце: «Возьму от тебя людей, сровняю Ряш с землей». После пира в Ряше мало нас осталось: четыреста голов легло в окаянном городе. Сережка стоил тыщи голов козацких! И что же, душа упала, потухло сердце мое, когда узрел здесь полумертвый стан. Чую и вижу: люди бредят, иные, будто укушены черной смертью, бродят, ища, где пасть… Да, Федор, буду я крепок, затаю обиду: не пора нынче считаться с персами… Увезу проклятое золото, рухлядь и узорочье, кину средь своих людей: «Дуваньте, браты, клятое добро, взятое кровью храбрых!» Я – нищий с золотом! Сколь богатырей мне в посулы дал родной Дон, и всех их извел я, как лиходей неразумной, а дела впереди много… ох, много дела, Федор!
– Полно никнуть, батько Степан! Придешь на Русь да гикнешь, и вновь слетятся соколы.
– Эх, таковые уж не слетятся больше!..
В темноте перекликался дозор:
– Не-ча-а-й!..
– Не-ча-а-й!..
На носу косы Миян-Кале, ушедшей далеко в море, сутулясь, стоит широкоплечая черная тень человека; от черной волны, чуждо говорливой, сияющей на гребнях тускло-зеленым, в глазах черного человека – зеленый блеск. Храпит, бредит и дико поет земля за спиной атамана, лохматятся на густо-синем черные шалаши, мутно белеют палатки. Справа и слева косы в морском просторе, щетинясь, сереют комья стругов и громче, чем на суше, звучит «заказное слово»:
– Не-ча-а-й!..
– Не-ча-а-й!..
Черная фигура взмахнула длинной рукой; от страшного голоса, казалось, волны побежали прочь, в ширину моря.
– Гей, Стенько! Не спрямить сломанного – давай ломить дальше!
С тусклым лицом атаман повернулся, шагнув к палаткам:
– Гей, гой, соколы-ы! Пали огни, чини струги! С рассветом айда к Астрахани!
– О, то радость! Кинем землю проклятущую.
– Ставай, кто мочен! Жги огонь, бери топор!
Казалось, мертвое становище казаков не было силы поднять, – но голосу атамана-чародея послушное, встало, зашевелилось кругом. Затрещали, вспыхивая, огни. Лица, руки, синий балахон, красный кафтан замелькали в огнях. Забелели лезвия топоров, рукоятки сабель.
Раньше, чем уйти в палатку, Разин сказал негромко, и слышали его все вставшие на ноги:
– Дозор, готовь челны, плавь на струги, чтоб плыть к берегу починиваться.
– Чуем, Степан Тимофеевич!
Двинутые с берега челны загорелись зеленоватыми искрами брызг. На воде звонкие голоса кричали в черную ширину, ровную и тихую:
– Торо-пись!
– В Астрахань!
– А там на Дон, браты-ы!
На бортах стругов задымили факелы, перемещаясь и прыгая, выхватывая из сумрака лица, бороды, усы и запорожские шапки.
Часть третья
На воевод и царя
1
За столом – от царского трона справа – три дьяка склонились над бумагами.
Вошел любимый советник царя, боярин Пушкин, встал у дверей, поклонясь. Он ждал молча окончания читаемого царю донесения сибирского воеводы.
Русоволосый степенный дьяк с густой, лоснящейся шелком бородой громко и раздельно выговаривал каждое слово:
– «…старые тюрьмы велели подкрепить и жен и детей тюремных сидельцев, которые сосланы по твоему, великого государя, указу в Сибирь – сто одиннадцать человек, – велели посадить в старые тюрьмы».
Царь распахнул зарбафный кабат с жемчужными нарамниками, неторопливо приставил с боку трона узорчатый посох с крестом и, потирая правой рукой белый низкий лоб, сказал:
– Так их! Шли мужья, отцы к вору Стеньке за море, да и иных сговаривали тож… Сядь, дьяче. – Поманил рукой Пушкина: – Подойди, Иван Петрович! Тут – дела, кои до тебя есть.
Бородатый сутулый боярин, вскинув на царя узкие, глубоко запавшие глаза, шагнул к трону, отдав земной поклон:
– Из Патриарша приказа, великий государь, жалобу митрополита астраханского мне по пути вручили, а в ней вести, что воровской атаман Разин объявился у наших городов.
– Слышал уж я про то, боярин! И думно мне отписать к воеводам в Астрахань, Прозоровскому Ивану да князь Семену Львову, чтоб вскорости разобрали бы козаков Стеньки Разина по стрелецким приказам и держали до нашего на то дело повеления… – Подумав, царь прибавил: – И никакими меры на Дон их до нашего указу не спущать!..
– Не должно спустить на Дон тех козаков, государь… На Гуляй-поле много сбеглось холопов от Москвы и с иных сел, городов, оттого голод там, скудность большая… В Кизылбаши тянулись к Разину, а объявись Разин на Дону, и незамедлительно вся голытьба к ему шатнется. Он же, по слухам дьяков и сыскных людей, богат несметно… Мне еще о том доносил мой сыщик Куретников. Вот кто, великий государь, достоин всяческой хвалы, так этот подьячий… Достоканы[50 - Д о с т о к а н ы – доподлинно.], живучи в Персии, познал и язык и нравы – все доводил, и мы знали до мала, что круг шаха деется. Нынче мыслю я его там держать, да пошто-то грамоты перестали ходить… А зорок парень, ох, зорок!
– Очутится здесь – службу ему дадим по заслугам.
– Заслужил он тое почетную службу, великий государь! Слышно мне: много вор, Стенька Разин, пожег шаховых городов?
– Ох, много, боярин! И должно чаять от шаха нелюбья. Пишет мне стольник Петр Прозоровский, что шах, осердясь на разорение его городов грабителями, Стенькой Разиным с товарищи, собирает войско для подступа к Теркам, и нам, боярин, пуще всего нужно войско назрить… Шатости, грозы со всех сторон еще немало будет…
– Войско строить, и, по моему разумению, великий государь, неотложно!
– Теперь, боярин, хочу знать, чем жалобит богомолец мой астраханский.
Боярин передал русоволосому дьяку, наследнику Киврина, грамоту с черной монастырской печатью.
Дьяк Ефим, поклонившись царю, громко начал: