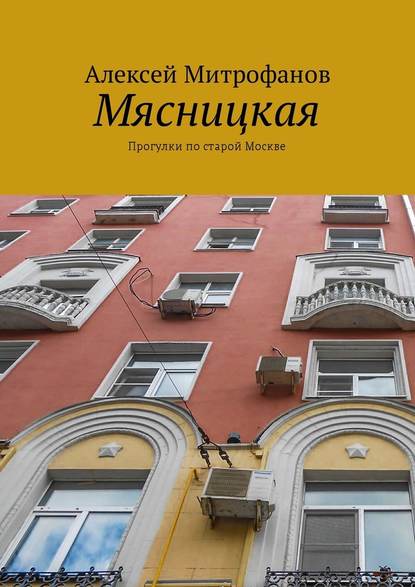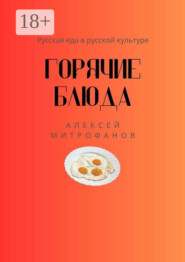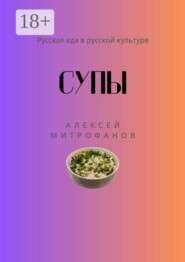По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мясницкая. Прогулки по старой Москве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Се образ изваян премудрого Героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил.
И это лишь усилило подозрения.
Михайло Ломоносов много преуспел в науках и даже основал московский университет. Пушкин же говорил, что он «сам был первым нашим университетом». У Александра Сергеевича были к тому основания.
Основным «местом службы» Ломоносова была Императорская академия наук в Санкт-Петербурге. Он был одним из самых неуживчивых ее сотрудников. Мало того что русское светило был большим любителем крепких напитков (говорят, что Ломоносов как-то раз пропил в ближайшем кабаке академический хронометр), – он пользовался репутацией отчаянного скандалиста. Однажды обер-камергер Шувалов заявил ученому:
– Мы отставим тебя от Академии.
На что Ломоносов ответствовал:
– Нет. Разве что Академию отставите от меня.
И был абсолютно прав. Его действительно оставили на службе, хотя ученый не счел нужным менять свой характер и пристрастия.
Впрочем, не один Ломоносов сделал славу Славяно-греко-латинской академии на улице Никольской. В ней обучались архитектор Баженов, поэт Тредиаковский, автор первого в России учебника по арифметике Леонтий Магницкий…
Чуть ли не все российские ученые эпохи Ломоносова оканчивали академию при Заиконоспасском монастыре. И неудивительно – выбор учебных заведений был в то время не велик.
* * *
Все продолжалось тихо, мирно, благостно, пока в Москву не вошел император Бонапарт со своим войском. В этот момент наступили для братии черные времена. «История московского епархиального управления», изданная в 1871 году, сообщала: «В 1812 г. при Наполеоне оставшихся монахов в Заиконоспасском монастыре ограбили до наготы, заставляли их носить грузы. Иеромонах Виктор был брошен в реку Москву за Новинским монастырем, но он реку переплыл и ночевал среди кустов. Иеродиакон Вонифатий по дряхлости не мог носить груз, также брошен в реку. Иеродиакона Владимира заставляли носить груз нагого, потом, прикрыв его святым покровом, приводили в Кремль к королю Неаполитанскому. В нижней церкви были поставлены лошади, вместо ковров их покрывали ризами. В казначейской келии жили портные и шили мундиры. В книжных лавках француженка торговала вином и съестным, постель у нее была покрыта Плащаницей. От взрыва Арсенала в Кремле монастырь был покрыт кирпичами, бревнами, железными полосами и решетками. Стекла все выбило. Перед выходом из Москвы у неприятеля было плохо с продовольствием, ели один картофель, иногда стреляли галок и ворон».
Не посчастливилось и тем, кто обучался в стенах этого учреждения: «В Славяно-греко-латинской академии в 1812 г. осталось 5 учеников, их французы обратили в прислугу, за что довольствовали пищей. В покоях ректора поместился генерал, в покоях префекта его штаб, в классах швальня (портняжная мастерская – АМ.), на кухне пекли хлебы и отпускали в полки. От пожара здания уцелели. Неприятель расхитил медные деньги 1 950 руб. и годовой продовольственный запас: муку, крупу, дрова и проч. От кремлевских взрывов в классах и жилых покоях окна были выбиты, многие покои сделались непригодными к жилью».
По окончании войны с Наполеоном, в 1814 году, академия из полусветского-полудуховного учебного учреждения превратилась в богословское и приобрела новое название – Московская духовная академия. Тогда же ее перевели в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву лавру.
После революции 1917 года академию закрыли, но в 1943 году, на волне легкого православного ренессанса, она была восстановлена и поначалу размещалась в Новодевичьем мона-стыре. Однако спустя четыре года академию вновь разместили в Троице-Сергиевой Лавре. Там она и существует по сей день.
* * *
Между тем Заиконоспасский монастырь жил своей жизнью. Пользовался доброй славой среди москвичей – в первую очередь благодаря тому, что находился в самом центре, рядышком с Кремлем.
Но не только это привлекало сюда обывателей. В частности, купец П. В. Медведев в 1859 году писал: «Сходил к вечерне в Заиконоспасский монастырь. Вечерня идет здесь исполнительно. Поют стихиры празднуемому святому. Слушаешь и не наслушаешься, таково в душе хорошо, кажется, всем доволен».
Во время коронаций, когда по Никольской улице шли праздничные и нарядные процессии, монахи Заиконоспасского монастыря сдавали свои кельи внаем желающим зевакам. Правда, некоторые стеснялись получать за это деньги – брали чаем или же другим каким деликатесом.
А в одном из корпусов – из тех, что выходили на Никольскую, – действовал очень популярный магазин игрушек.
Впрочем, действовало здесь и учебное учреждение. Это была бурса все при той же академии, располагавшейся теперь в Сергиевом посаде. Нравы были довольно дикие. Один из бурсаков, историк церкви Н. П. Розанов, вспоминал: «Помню, например, как авдитор, т.е. старший ученик, слушавший выученный мною урок по греческой грамматике, воткнул мне в рот карандаш и в кровь расцарапал все небо за то, что я, по его мнению, нешироко открывал рот, и ему не было слышно всех слов, какие я произносил. Таска за волосы, битье по щекам, посылка на колени также были обычными способами воздействия со стороны начальствующих на учащихся. Особенным искусством таскать за волосы отличался наш смотритель Дионисий. Он имел сапоги на мягкой резиновой подошве и потому незаметно подходил сзади к задремавшему над книгой во время вечерних занятий ученику и начинал методически таскать его за волосы, начиная с затылка и все ближе и ближе пощипывая их по направлению ко лбу, добравшись до которого, он мгновенно хватал ученика за волосы всею рукою и ударял лбом о парту. „Учи, учи, мерзавец!“ – каким-то сладострастным шепотом внушал он прилежание одному ленивцу и потом незаметно подходил к другому для совершения такой же экзекуции, но с некоторыми, по-видимому, случайными вариациями. В минуты особого раздражения Дионисий отпускал тому или иному подвернувшемуся под руку ученику сильную пощечину или схватывал, и притом пребольно, как клещами, за ухо и драл его изо всей силы».
Ученики, однако же, терпели, ведь профессия священника в будущем обещала очень даже ощутимые блага.
Еще раз, уже после революции, монастырь, что называется, вошел в историю в 1922 году: здесь служил епископ Антонин, один из идеологов так называемой «живой», или же «обновленческой» церкви. Один из современников, В. Марцинковский вспоминал об этих службах: «Я был там вскоре после Пасхи. Присутствовали преимущественно мужчины. Служба шла на русском языке в переводе еп. Антонина. К служению он выходил из алтаря, уже в архиерейских ризах, отменив длинную церемонию облачения архиерея, что давало повод некоторым называть архиерейскую службу не Богослужением, а архиерееслужением. Видно было, с каким интересом прислушивались молящиеся к понятным русским словам, во многих из них как бы впервые открывая новые истины, которые оказывались очень близкими и важными (такие открытия особенно относились к кафизмам, стихирам, канонам, в которых и хорошо знающий церковнославянский язык не легко разберется)».
Время было смутное, невнятное. Обычный обыватель даже не предполагал, проснется он на следующий день в своей кровати или же в камере ЧК. А может, и вовсе поднимут на вилы опившиеся земледельцы из ближней деревни.
Но находились люди, верившие в то, что перемена власти – это к лучшему, что новые порядки дают новые, невиданные ранее возможности. К таким, разумеется, принадлежал и отец Антонин, стремившийся сделать церковную службу понятнее, проще, душевнее.
Тот же Марцинковский вспоминал об Антонине: «Евангелие он читал тоже по-русски, медленно, истово, с большим чувством; в это время он стоял на архиерейском возвышении, посреди церкви, лицом к народу. Вдруг раздается истерический визг «Господи! Какое кощунство!.. Спиной к алтарю Евангелие читает!»… Какая-то женщина не выносит подобного новшества; ее успокаивают, но она продолжает шуметь, нарушая благочиние – и прихожане выводят ее из церкви. Антонин продолжает читать, лишь раз обернувшись на крик, с огорчением на лице».
Да, епископ был подвижником, только верующим не хотелось перемен – их без того хватало в ту эпоху. Антонин вызывал лишь иронию и раздражение. И другой очевидец, москвич Н. П. Окунев, возмущался: «Кстати, об Антонине. Этот и себя разжаловал, то именовался „Митрополитом Московским“, а теперь подписывается и называется только „епископом“. Но при этом он считает себя главой выдуманной им самим „церкви возрождения“, а тот храм, в котором он представляет, зовет „кафедральным собором“ (это нижний храм бывшего Заиконоспасского монастыря, что на Никольской улице). Там, говорят, собирается в торжественных случаях человек по 200, и это, конечно, вся его паства. Так что зачем ему свой синод, свои викарные, а между тем, в его организации все это тоже имеется».
Впрочем, в скором времени в монастыре прекратились даже «обновленческие» службы.
Базар для двоих
Здание ресторана «Славянский базар» (Никольская улица, 17). Построено архитектором А. Вебером в 1873 году.
Все началось в 1872 году, когда предприниматель А. А. Пороховщиков открыл на улице Никольской новую гостиницу. И назвал ее просто – «Славянский базар». Здесь останавливалось множество известнейших «гостей Москвы» – В. В. Стасов, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, Г. И. Успенский, Ф. Нансен, и прочая, и прочая, и прочая. Можно сказать, что по числу почетных посетителей эта гостиница до революции лидировала.
А вот в историю литературы она, увы, вошла весьма печальным образом – крутым, бесповоротным переломом в жизни Антона Павловича Чехова. Сам он так писал об этом в записке к своей знакомой, писательнице Лидии Алексеевне Авиловой: «Вот вам мое преступное curriculum vitae: в ночь под субботу я стал плевать кровью. Утром поехал в Москву. В 6 часов поехал с Сувориным в „Эрмитаж“ обедать и едва сел за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в „Славянский базар“; доктора; пролежал я более суток – и теперь дома, т.е. в Больш. моск. гостинице. Ваш А. Чехов».
Именно с эпизода в «Славянском базаре» неизлечимая болезнь стала очевидной и для окружающих и, естественно, для самого доктора Чехова.
Однако большинство постояльцев были довольны и счастливы. Еще бы – новая гостиница к тому располагала. Владимир Гиляровский вспоминал: «Фешенебельный «Славянский базар» с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры, и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и… аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых номерах.
Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов.
Сватайся и женись».
Многие, вероятно, так и поступали.
Со временем гостиница, конечно же, поизносилась, но не растеряла лоска. Петр Боборыкин так писал о ней: «Большими деньгами дышал весь отель, отстроенный на славу, немного уже затоптанный и не так старательно содержимый, но хлесткий, бросающийся в нос своим московским комфортом и убранством».
Словом, гостиница была отнюдь не из последних.
* * *
Но все-таки гостинца прославилась не столько номерами, коридорными и постояльцами, сколько одноименным рестораном, открытом при отеле спустя год.
Ресторан создавался с размахом. Гиляровский восхищался: «Здание „Славянского базара“ было выстроено в семидесятых годах А. А. Пороховщиковым, и его круглый двухсветный зал со стеклянной крышей очень красив».
Илья Репин даже написал для ресторана специальную картину под названием «Славянские композиторы» (полное название – «Собрание русских, польских и чешских музыкантов»). Полотно было настолько хорошо исполнено, что после революции его не погнушались увезти в Консерваторию, где разместили над парадной лестницей.
Бывший главный архитектор города Москвы М. В. Посохин умилялся: «Можно привести много примеров удачного размещения станковых картин в прошлом. Приведу первый пришедший в голову, может быть не самый яркий. В Московской государственной консерватории, на большой площадке лестницы, переходящей в фойе, размещена картина И. Е. Репина „Славянские композиторы“. Она всегда привлекает внимание, так как отвечает своим содержанием назначению здания и удачно экспонирована. Хотя и не для этого места написана. Ничего другого здесь не хочется видеть. Картина замыкает фойе, как мы говорим, „держит“ его пространство, ведущее в главный зал».
Впрочем, друзья Репина не слишком-то одобрили эту работу. Иван Сергеевич Тургенев, например, писал: «Я с истинным соболезнованием признал в этом холодном винегрете живых и мертвых – натянутую чушь, которая могла родиться только в голове какого-нибудь Хлестакова-Пороховщикова с его „Славянским базаром“».
По словам все того же Тургенева, сам Репин тоже не был рад картине: «Художник просидел у меня часа два и с сердечным сокрушением говорил о навязанной ему теме и даже сожалел, что я ходил смотреть его произведение, в котором все-таки виден замечательный талант, но который в эту минуту претерпевает заслуженное фиаско».
Знали бы Тургенев с Репиным, что всего-навсего спустя полвека это полотно будет с почетом перенесено в Консерваторию!
Однако большая часть современников все же восприняла «Славянских композиторов» с симпатией. А владелец «Славянского базара» Пороховщиков даже устроил пафосную церемонию открытия работы. Художник вспоминал: «Разодетые дамы и панство, панство без конца… мундиры, мундиры! А вот и само его преосвященство. Сколько дам, девиц света в бальных туалетах! Ароматы духов, перчатки до локтей, – свет, свет! Французский, даже английский языки, фраки с ослепительной грудью… Пороховщиков торжествует. Как ужаленный он мечется от одного высокопоставленного лица к другому, еще более высокопоставленному».
Впрочем, со временем Репин полюбил свою работу. Он даже пытался вызволить ее из заточения в ресторане, пусть даже ненадолго. Писал Павлу Михайловичу Третьякову: «Нельзя ли попросить городского голову Алексеева, может быть, он повлияет на директоров?.. Ведь это было бы ужасным варварством, если и мой залог и ручательство известных в Москве лиц ничего не помогли бы. Я думаю, что они вам поверят и примут во внимание вред картины висеть так долго без лаку в месте, где так много всякой копоти».
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил.
И это лишь усилило подозрения.
Михайло Ломоносов много преуспел в науках и даже основал московский университет. Пушкин же говорил, что он «сам был первым нашим университетом». У Александра Сергеевича были к тому основания.
Основным «местом службы» Ломоносова была Императорская академия наук в Санкт-Петербурге. Он был одним из самых неуживчивых ее сотрудников. Мало того что русское светило был большим любителем крепких напитков (говорят, что Ломоносов как-то раз пропил в ближайшем кабаке академический хронометр), – он пользовался репутацией отчаянного скандалиста. Однажды обер-камергер Шувалов заявил ученому:
– Мы отставим тебя от Академии.
На что Ломоносов ответствовал:
– Нет. Разве что Академию отставите от меня.
И был абсолютно прав. Его действительно оставили на службе, хотя ученый не счел нужным менять свой характер и пристрастия.
Впрочем, не один Ломоносов сделал славу Славяно-греко-латинской академии на улице Никольской. В ней обучались архитектор Баженов, поэт Тредиаковский, автор первого в России учебника по арифметике Леонтий Магницкий…
Чуть ли не все российские ученые эпохи Ломоносова оканчивали академию при Заиконоспасском монастыре. И неудивительно – выбор учебных заведений был в то время не велик.
* * *
Все продолжалось тихо, мирно, благостно, пока в Москву не вошел император Бонапарт со своим войском. В этот момент наступили для братии черные времена. «История московского епархиального управления», изданная в 1871 году, сообщала: «В 1812 г. при Наполеоне оставшихся монахов в Заиконоспасском монастыре ограбили до наготы, заставляли их носить грузы. Иеромонах Виктор был брошен в реку Москву за Новинским монастырем, но он реку переплыл и ночевал среди кустов. Иеродиакон Вонифатий по дряхлости не мог носить груз, также брошен в реку. Иеродиакона Владимира заставляли носить груз нагого, потом, прикрыв его святым покровом, приводили в Кремль к королю Неаполитанскому. В нижней церкви были поставлены лошади, вместо ковров их покрывали ризами. В казначейской келии жили портные и шили мундиры. В книжных лавках француженка торговала вином и съестным, постель у нее была покрыта Плащаницей. От взрыва Арсенала в Кремле монастырь был покрыт кирпичами, бревнами, железными полосами и решетками. Стекла все выбило. Перед выходом из Москвы у неприятеля было плохо с продовольствием, ели один картофель, иногда стреляли галок и ворон».
Не посчастливилось и тем, кто обучался в стенах этого учреждения: «В Славяно-греко-латинской академии в 1812 г. осталось 5 учеников, их французы обратили в прислугу, за что довольствовали пищей. В покоях ректора поместился генерал, в покоях префекта его штаб, в классах швальня (портняжная мастерская – АМ.), на кухне пекли хлебы и отпускали в полки. От пожара здания уцелели. Неприятель расхитил медные деньги 1 950 руб. и годовой продовольственный запас: муку, крупу, дрова и проч. От кремлевских взрывов в классах и жилых покоях окна были выбиты, многие покои сделались непригодными к жилью».
По окончании войны с Наполеоном, в 1814 году, академия из полусветского-полудуховного учебного учреждения превратилась в богословское и приобрела новое название – Московская духовная академия. Тогда же ее перевели в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву лавру.
После революции 1917 года академию закрыли, но в 1943 году, на волне легкого православного ренессанса, она была восстановлена и поначалу размещалась в Новодевичьем мона-стыре. Однако спустя четыре года академию вновь разместили в Троице-Сергиевой Лавре. Там она и существует по сей день.
* * *
Между тем Заиконоспасский монастырь жил своей жизнью. Пользовался доброй славой среди москвичей – в первую очередь благодаря тому, что находился в самом центре, рядышком с Кремлем.
Но не только это привлекало сюда обывателей. В частности, купец П. В. Медведев в 1859 году писал: «Сходил к вечерне в Заиконоспасский монастырь. Вечерня идет здесь исполнительно. Поют стихиры празднуемому святому. Слушаешь и не наслушаешься, таково в душе хорошо, кажется, всем доволен».
Во время коронаций, когда по Никольской улице шли праздничные и нарядные процессии, монахи Заиконоспасского монастыря сдавали свои кельи внаем желающим зевакам. Правда, некоторые стеснялись получать за это деньги – брали чаем или же другим каким деликатесом.
А в одном из корпусов – из тех, что выходили на Никольскую, – действовал очень популярный магазин игрушек.
Впрочем, действовало здесь и учебное учреждение. Это была бурса все при той же академии, располагавшейся теперь в Сергиевом посаде. Нравы были довольно дикие. Один из бурсаков, историк церкви Н. П. Розанов, вспоминал: «Помню, например, как авдитор, т.е. старший ученик, слушавший выученный мною урок по греческой грамматике, воткнул мне в рот карандаш и в кровь расцарапал все небо за то, что я, по его мнению, нешироко открывал рот, и ему не было слышно всех слов, какие я произносил. Таска за волосы, битье по щекам, посылка на колени также были обычными способами воздействия со стороны начальствующих на учащихся. Особенным искусством таскать за волосы отличался наш смотритель Дионисий. Он имел сапоги на мягкой резиновой подошве и потому незаметно подходил сзади к задремавшему над книгой во время вечерних занятий ученику и начинал методически таскать его за волосы, начиная с затылка и все ближе и ближе пощипывая их по направлению ко лбу, добравшись до которого, он мгновенно хватал ученика за волосы всею рукою и ударял лбом о парту. „Учи, учи, мерзавец!“ – каким-то сладострастным шепотом внушал он прилежание одному ленивцу и потом незаметно подходил к другому для совершения такой же экзекуции, но с некоторыми, по-видимому, случайными вариациями. В минуты особого раздражения Дионисий отпускал тому или иному подвернувшемуся под руку ученику сильную пощечину или схватывал, и притом пребольно, как клещами, за ухо и драл его изо всей силы».
Ученики, однако же, терпели, ведь профессия священника в будущем обещала очень даже ощутимые блага.
Еще раз, уже после революции, монастырь, что называется, вошел в историю в 1922 году: здесь служил епископ Антонин, один из идеологов так называемой «живой», или же «обновленческой» церкви. Один из современников, В. Марцинковский вспоминал об этих службах: «Я был там вскоре после Пасхи. Присутствовали преимущественно мужчины. Служба шла на русском языке в переводе еп. Антонина. К служению он выходил из алтаря, уже в архиерейских ризах, отменив длинную церемонию облачения архиерея, что давало повод некоторым называть архиерейскую службу не Богослужением, а архиерееслужением. Видно было, с каким интересом прислушивались молящиеся к понятным русским словам, во многих из них как бы впервые открывая новые истины, которые оказывались очень близкими и важными (такие открытия особенно относились к кафизмам, стихирам, канонам, в которых и хорошо знающий церковнославянский язык не легко разберется)».
Время было смутное, невнятное. Обычный обыватель даже не предполагал, проснется он на следующий день в своей кровати или же в камере ЧК. А может, и вовсе поднимут на вилы опившиеся земледельцы из ближней деревни.
Но находились люди, верившие в то, что перемена власти – это к лучшему, что новые порядки дают новые, невиданные ранее возможности. К таким, разумеется, принадлежал и отец Антонин, стремившийся сделать церковную службу понятнее, проще, душевнее.
Тот же Марцинковский вспоминал об Антонине: «Евангелие он читал тоже по-русски, медленно, истово, с большим чувством; в это время он стоял на архиерейском возвышении, посреди церкви, лицом к народу. Вдруг раздается истерический визг «Господи! Какое кощунство!.. Спиной к алтарю Евангелие читает!»… Какая-то женщина не выносит подобного новшества; ее успокаивают, но она продолжает шуметь, нарушая благочиние – и прихожане выводят ее из церкви. Антонин продолжает читать, лишь раз обернувшись на крик, с огорчением на лице».
Да, епископ был подвижником, только верующим не хотелось перемен – их без того хватало в ту эпоху. Антонин вызывал лишь иронию и раздражение. И другой очевидец, москвич Н. П. Окунев, возмущался: «Кстати, об Антонине. Этот и себя разжаловал, то именовался „Митрополитом Московским“, а теперь подписывается и называется только „епископом“. Но при этом он считает себя главой выдуманной им самим „церкви возрождения“, а тот храм, в котором он представляет, зовет „кафедральным собором“ (это нижний храм бывшего Заиконоспасского монастыря, что на Никольской улице). Там, говорят, собирается в торжественных случаях человек по 200, и это, конечно, вся его паства. Так что зачем ему свой синод, свои викарные, а между тем, в его организации все это тоже имеется».
Впрочем, в скором времени в монастыре прекратились даже «обновленческие» службы.
Базар для двоих
Здание ресторана «Славянский базар» (Никольская улица, 17). Построено архитектором А. Вебером в 1873 году.
Все началось в 1872 году, когда предприниматель А. А. Пороховщиков открыл на улице Никольской новую гостиницу. И назвал ее просто – «Славянский базар». Здесь останавливалось множество известнейших «гостей Москвы» – В. В. Стасов, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, Г. И. Успенский, Ф. Нансен, и прочая, и прочая, и прочая. Можно сказать, что по числу почетных посетителей эта гостиница до революции лидировала.
А вот в историю литературы она, увы, вошла весьма печальным образом – крутым, бесповоротным переломом в жизни Антона Павловича Чехова. Сам он так писал об этом в записке к своей знакомой, писательнице Лидии Алексеевне Авиловой: «Вот вам мое преступное curriculum vitae: в ночь под субботу я стал плевать кровью. Утром поехал в Москву. В 6 часов поехал с Сувориным в „Эрмитаж“ обедать и едва сел за стол, как у меня кровь пошла горлом форменным образом. Затем Суворин повез меня в „Славянский базар“; доктора; пролежал я более суток – и теперь дома, т.е. в Больш. моск. гостинице. Ваш А. Чехов».
Именно с эпизода в «Славянском базаре» неизлечимая болезнь стала очевидной и для окружающих и, естественно, для самого доктора Чехова.
Однако большинство постояльцев были довольны и счастливы. Еще бы – новая гостиница к тому располагала. Владимир Гиляровский вспоминал: «Фешенебельный «Славянский базар» с дорогими номерами, где останавливались петербургские министры, и сибирские золотопромышленники, и степные помещики, владельцы сотен тысяч десятин земли, и… аферисты, и петербургские шулера, устраивавшие картежные игры в двадцатирублевых номерах.
Ход из номеров был прямо в ресторан, через коридор отдельных кабинетов.
Сватайся и женись».
Многие, вероятно, так и поступали.
Со временем гостиница, конечно же, поизносилась, но не растеряла лоска. Петр Боборыкин так писал о ней: «Большими деньгами дышал весь отель, отстроенный на славу, немного уже затоптанный и не так старательно содержимый, но хлесткий, бросающийся в нос своим московским комфортом и убранством».
Словом, гостиница была отнюдь не из последних.
* * *
Но все-таки гостинца прославилась не столько номерами, коридорными и постояльцами, сколько одноименным рестораном, открытом при отеле спустя год.
Ресторан создавался с размахом. Гиляровский восхищался: «Здание „Славянского базара“ было выстроено в семидесятых годах А. А. Пороховщиковым, и его круглый двухсветный зал со стеклянной крышей очень красив».
Илья Репин даже написал для ресторана специальную картину под названием «Славянские композиторы» (полное название – «Собрание русских, польских и чешских музыкантов»). Полотно было настолько хорошо исполнено, что после революции его не погнушались увезти в Консерваторию, где разместили над парадной лестницей.
Бывший главный архитектор города Москвы М. В. Посохин умилялся: «Можно привести много примеров удачного размещения станковых картин в прошлом. Приведу первый пришедший в голову, может быть не самый яркий. В Московской государственной консерватории, на большой площадке лестницы, переходящей в фойе, размещена картина И. Е. Репина „Славянские композиторы“. Она всегда привлекает внимание, так как отвечает своим содержанием назначению здания и удачно экспонирована. Хотя и не для этого места написана. Ничего другого здесь не хочется видеть. Картина замыкает фойе, как мы говорим, „держит“ его пространство, ведущее в главный зал».
Впрочем, друзья Репина не слишком-то одобрили эту работу. Иван Сергеевич Тургенев, например, писал: «Я с истинным соболезнованием признал в этом холодном винегрете живых и мертвых – натянутую чушь, которая могла родиться только в голове какого-нибудь Хлестакова-Пороховщикова с его „Славянским базаром“».
По словам все того же Тургенева, сам Репин тоже не был рад картине: «Художник просидел у меня часа два и с сердечным сокрушением говорил о навязанной ему теме и даже сожалел, что я ходил смотреть его произведение, в котором все-таки виден замечательный талант, но который в эту минуту претерпевает заслуженное фиаско».
Знали бы Тургенев с Репиным, что всего-навсего спустя полвека это полотно будет с почетом перенесено в Консерваторию!
Однако большая часть современников все же восприняла «Славянских композиторов» с симпатией. А владелец «Славянского базара» Пороховщиков даже устроил пафосную церемонию открытия работы. Художник вспоминал: «Разодетые дамы и панство, панство без конца… мундиры, мундиры! А вот и само его преосвященство. Сколько дам, девиц света в бальных туалетах! Ароматы духов, перчатки до локтей, – свет, свет! Французский, даже английский языки, фраки с ослепительной грудью… Пороховщиков торжествует. Как ужаленный он мечется от одного высокопоставленного лица к другому, еще более высокопоставленному».
Впрочем, со временем Репин полюбил свою работу. Он даже пытался вызволить ее из заточения в ресторане, пусть даже ненадолго. Писал Павлу Михайловичу Третьякову: «Нельзя ли попросить городского голову Алексеева, может быть, он повлияет на директоров?.. Ведь это было бы ужасным варварством, если и мой залог и ручательство известных в Москве лиц ничего не помогли бы. Я думаю, что они вам поверят и примут во внимание вред картины висеть так долго без лаку в месте, где так много всякой копоти».