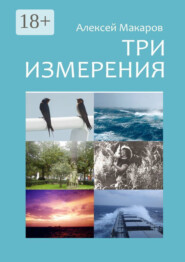По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нельсон. Морские рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Интересно. Какой ты хороший! Какой ты замечательный!
Я вновь засунул его себе под комбинезон, но уже во внутренний карман, повернулся и пошёл обратно к порту. Думаю: «Вот это да! Надо же! Или мне это кажется, или он и вправду со мной разговаривает? Не понимаю».
***
Но тут же вспомнился случай, который у меня был на «Бурханове». Судно было поставлено на линию из Владивостока в Сиэтл. В Сиэтл мы уже сходили два раза. Ходили с погрузкой и выгрузкой в Магадане. Продолжительность рейса была полтора месяца. В Сиэтле я познакомился с одним мужичком, бывшим стармехом из Приморского пароходства по фамилии Зайцев. Он жил там с молодой женой и пятилетней дочкой Машей. И он как-то обратился ко мне:
– Ты не будешь против, если на стоянке во Владивостоке к тебе на «Бурханов» придёт мой сын? Я с молодой женой уехал впопыхах, убегая от прежней жены, и все свои вещи оставил в Находке. Он привезёт тебе несколько ящиков с моими личными вещами. Возьми их с собой, а я у тебя их тут, в Сиэтле, заберу. Если, конечно, тебя это не затруднит, – неуверенно попросил он меня.
– Не затруднит, если там бомбы не будет, – полушутя пообещал я ему.
– Хорошо. Значит, я звоню сыну? – обрадовался Юра.
И когда мы пришли во Владивосток, в один из вечеров на борт судна приходит парень и говорит:
– Я – сын Зайцева, и я вам привёз ящики для папы.
– Хорошо, а что же ты предварительно не позвонил мне и не сказал ничего? – было уже поздно, и я с семьей уже собирался ехать домой.
Но он, несмотря на то, что в каюте были жена и дети, напомнил мне:
– Папа мне сказал, что я могу здесь отдать вам его вещи.
Деваться было некуда, ведь мы находились уже в порту под выгрузкой и на завтра был назначен отход.
– Хорошо, – нехотя согласился я, – давай, тащи сюда свои ящики.
Так он притащил не несколько, а пятнадцать штук огромных ящиков из-под яблок. Наверное, там было по двадцать четыре килограмма в каждом ящике. Здоровенные и тяжеленные оказались эти ящики. Он, со своим другом, под моим руководством забил ими всю ванную комнату. И плюс к тому же было ещё два свёрнутых ковра.
Господи, думаю, вот это да, вот это я влетел. Что мне теперь с этими вещами делать? Потом думаю: да ладно, может быть, пронесёт.
Во время того отхода таможня во Владивостоке особо нас не трясла. Семён Иваныч умер, и никто такими ловкими пальцами не лез в карманы пиджаков, чтобы оттуда достать один рубль или лотерейный билет за тридцать копеек, которые могли бы серьёзно подорвать экономику СССР. А после обнаружения этого преступления несчастного морячка, который по пьяни забыл вынуть из кармана советское достояние, лишали визы и возможности совершать заграничные рейсы.
Мы же стояли на линии. Возить ни в Америку, ни из Америки было особенно нечего. Это же не японская линия, когда оттуда сейчас прут всяческое барахло, машины и всё остальное к ним в придачу.
Так оно и вышло. Никто особо нас не досматривал. По каютам таможенники не ходили. Мы заполнили декларации, принесли их в столовую, где, как обычно, их собирали при отходах. Этим дело и закончилось. Всё. Так и отошли из Владивостока.
Ну, отошли и отошли. Обычно я с утра ухожу в машинное отделение на работу, возвращаюсь в обед, после обеда опять пропадаю в машине. Вечером смотрю какой-нибудь фильм по видику и ложусь спать. Такой был режим работы и отдыха в течение рейса.
Но где-то дня через четыре просыпаюсь ночью от того, что кто-то кукарекает. Странно, интересно, думаю: «Вот это да! Что у меня, крыша едет, или я дурак какой-то?»
Я обошёл и осмотрел всё в каюте. Кукареканье раздавалось откуда-то из туалета. Там не было видно, откуда это нечто кукарекает. Потому что уложенные ящики стопками стояли чуть ли не до подволока. Думаю – мне это кажется. Положил голову на подушку, заснул – и всё. Больше не слышал кукареканья.
На следующую ночь произошло то же самое. А каждый день, приближаясь к Америке, мы переводили часы – один час через два дня. Получается, что первый раз оно закукарекало в пять утра, потом в шесть утра, потом в семь утра.
А из Владивостока в Сиэтл с нами решил проехаться корреспондент одной из американских газет. То ли сан-францисской газеты, то ли сиэтловской. Он неплохо говорил по-русски.
По-английски я тоже тренировался, особенно сейчас, потому что в рейс с нами пошла Галина Степановна – преподаватель английского языка.
Как она нас всех дрючила, бедных и несчастных!
Она вычисляла, где только мы можем находиться, ловила нас, и минимум два часа мы проводили в её твёрдых, жёстких объятиях преподавателя английского языка. Из этих тисков уже невозможно было никуда вывернуться. Галина Степановна скручивала из нас верёвки и вбивала в нас этот английский язык со страшной силой «П» нулевое, невзирая на ранги и должности.
А тут ещё и американец был. Так что те знания, которые вбила в нас Галина Степановна, мы понемножку применяли к этому американцу. С носителем языка велись различные разговоры на всевозможные темы. Ох и любопытный был этот корреспондентик. Иногда использовались слова и выражения, которые Галина Степановна вбивала в нас кувалдой. После этого они залегали в памяти глубоко и надолго.
И вот как-то утром, когда я проснулся от очередного кукареканья, я поднялся на мостик. Увидев на мостике американца, тупо уставившегося в лобовое стекло, я подошёл к нему.
Судно было основательное, ледового класса, мощное. Моряки эти суда между собой называли «морковками». Оно имело два мощнейших дизеля. Но мы пока шли только на одном, чтобы было экономичнее.
Приближались к Алеутам. Штормило, было пять-шесть баллов, но качки практически не ощущалось из-за солидных размеров нашего судна. Длиной оно было около 180 метров.
Не выдержав тишины мостика, я обратился к корреспонденту:
– Майкл, вы живете в каюте прямо надо мной. Я – старший механик, если вы помните.
Тот утвердительно кивнул головой. Мы уже с ним неоднократно вели различные беседы на различные темы, в которых то он поправлял мой английский, то я – его русский.
Поэтому, убедившись, что он меня понимает и слушает, я продолжал:
– Вас по ночам ничего не тревожит?
Он с удивлением приподнял брови.
– Потому что расположение вашей каюты примерно такое же, как и моей, – продолжал я. – И туалет, и ванная комната у вас находятся там же, где и у меня.
– Правда? А я и не знал об этом. Значит, мы по-настоящему соседи? – он изобразил искусственную улыбку на лице.
– Конечно соседи, – не обращая внимания на его эмоции, продолжал я, – даже и вентиляция из туалета и ванной у нас с вами одна. Так я вот о чём хочу спросить тебя, – мялся я: как бы корректнее задать свой вопрос? – Из вентиляции у тебя кукареканья не слышно?
Корреспондент широко открыл глаза, и они у него округлились до состояния бейсбольного мяча. Он посмотрел на меня с удивлением:
– Нет, ты знаешь, у меня в туалете ничего не кукарекает, может быть, тебе это послышалось?
– Да нет, – пожал я плечами, – ночью, то ли в четыре, то ли в пять часов, там что-то начинает кукарекать.
– Нет, – решительно, по-русски отмел он все мои сомнения, – у меня в туалете ничего не кукарекает.
Когда я узнал, что у него ничего в каюте не кукарекает, я вернулся к себе. Через полчаса забегает ко мне капитан:
– Дед, ты что, совсем сдурел, что ли! Ты что к этому американцу пристал? Он вообще думает, что у тебя крыша поехала, потому что у тебя там где-то ночью что-то кукарекает.
– Ты знаешь, Владимир Иванович, а оно и в самом деле кукарекает, – попытался я объяснить ситуацию возбуждённому капитану.
– Да не может быть, чтобы кукарекало, – напирал он на меня.
– Хорошо, – я поднял перед собой ладонь, чтобы успокоить возбуждённость капитана, – тогда я приглашаю тебя на концерт этого кукареканья, – а потом уже спокойнее добавил, – давай, приходи, посидим, послушаем. Ну, часика через полтора и приходи, – я посмотрел на часы. – Придёшь? – я вновь вопросительно глянул в его возмущённые глаза.
Капитан, немного успокоившись от моих заверений, развернулся и вышел из каюты.
Я вновь засунул его себе под комбинезон, но уже во внутренний карман, повернулся и пошёл обратно к порту. Думаю: «Вот это да! Надо же! Или мне это кажется, или он и вправду со мной разговаривает? Не понимаю».
***
Но тут же вспомнился случай, который у меня был на «Бурханове». Судно было поставлено на линию из Владивостока в Сиэтл. В Сиэтл мы уже сходили два раза. Ходили с погрузкой и выгрузкой в Магадане. Продолжительность рейса была полтора месяца. В Сиэтле я познакомился с одним мужичком, бывшим стармехом из Приморского пароходства по фамилии Зайцев. Он жил там с молодой женой и пятилетней дочкой Машей. И он как-то обратился ко мне:
– Ты не будешь против, если на стоянке во Владивостоке к тебе на «Бурханов» придёт мой сын? Я с молодой женой уехал впопыхах, убегая от прежней жены, и все свои вещи оставил в Находке. Он привезёт тебе несколько ящиков с моими личными вещами. Возьми их с собой, а я у тебя их тут, в Сиэтле, заберу. Если, конечно, тебя это не затруднит, – неуверенно попросил он меня.
– Не затруднит, если там бомбы не будет, – полушутя пообещал я ему.
– Хорошо. Значит, я звоню сыну? – обрадовался Юра.
И когда мы пришли во Владивосток, в один из вечеров на борт судна приходит парень и говорит:
– Я – сын Зайцева, и я вам привёз ящики для папы.
– Хорошо, а что же ты предварительно не позвонил мне и не сказал ничего? – было уже поздно, и я с семьей уже собирался ехать домой.
Но он, несмотря на то, что в каюте были жена и дети, напомнил мне:
– Папа мне сказал, что я могу здесь отдать вам его вещи.
Деваться было некуда, ведь мы находились уже в порту под выгрузкой и на завтра был назначен отход.
– Хорошо, – нехотя согласился я, – давай, тащи сюда свои ящики.
Так он притащил не несколько, а пятнадцать штук огромных ящиков из-под яблок. Наверное, там было по двадцать четыре килограмма в каждом ящике. Здоровенные и тяжеленные оказались эти ящики. Он, со своим другом, под моим руководством забил ими всю ванную комнату. И плюс к тому же было ещё два свёрнутых ковра.
Господи, думаю, вот это да, вот это я влетел. Что мне теперь с этими вещами делать? Потом думаю: да ладно, может быть, пронесёт.
Во время того отхода таможня во Владивостоке особо нас не трясла. Семён Иваныч умер, и никто такими ловкими пальцами не лез в карманы пиджаков, чтобы оттуда достать один рубль или лотерейный билет за тридцать копеек, которые могли бы серьёзно подорвать экономику СССР. А после обнаружения этого преступления несчастного морячка, который по пьяни забыл вынуть из кармана советское достояние, лишали визы и возможности совершать заграничные рейсы.
Мы же стояли на линии. Возить ни в Америку, ни из Америки было особенно нечего. Это же не японская линия, когда оттуда сейчас прут всяческое барахло, машины и всё остальное к ним в придачу.
Так оно и вышло. Никто особо нас не досматривал. По каютам таможенники не ходили. Мы заполнили декларации, принесли их в столовую, где, как обычно, их собирали при отходах. Этим дело и закончилось. Всё. Так и отошли из Владивостока.
Ну, отошли и отошли. Обычно я с утра ухожу в машинное отделение на работу, возвращаюсь в обед, после обеда опять пропадаю в машине. Вечером смотрю какой-нибудь фильм по видику и ложусь спать. Такой был режим работы и отдыха в течение рейса.
Но где-то дня через четыре просыпаюсь ночью от того, что кто-то кукарекает. Странно, интересно, думаю: «Вот это да! Что у меня, крыша едет, или я дурак какой-то?»
Я обошёл и осмотрел всё в каюте. Кукареканье раздавалось откуда-то из туалета. Там не было видно, откуда это нечто кукарекает. Потому что уложенные ящики стопками стояли чуть ли не до подволока. Думаю – мне это кажется. Положил голову на подушку, заснул – и всё. Больше не слышал кукареканья.
На следующую ночь произошло то же самое. А каждый день, приближаясь к Америке, мы переводили часы – один час через два дня. Получается, что первый раз оно закукарекало в пять утра, потом в шесть утра, потом в семь утра.
А из Владивостока в Сиэтл с нами решил проехаться корреспондент одной из американских газет. То ли сан-францисской газеты, то ли сиэтловской. Он неплохо говорил по-русски.
По-английски я тоже тренировался, особенно сейчас, потому что в рейс с нами пошла Галина Степановна – преподаватель английского языка.
Как она нас всех дрючила, бедных и несчастных!
Она вычисляла, где только мы можем находиться, ловила нас, и минимум два часа мы проводили в её твёрдых, жёстких объятиях преподавателя английского языка. Из этих тисков уже невозможно было никуда вывернуться. Галина Степановна скручивала из нас верёвки и вбивала в нас этот английский язык со страшной силой «П» нулевое, невзирая на ранги и должности.
А тут ещё и американец был. Так что те знания, которые вбила в нас Галина Степановна, мы понемножку применяли к этому американцу. С носителем языка велись различные разговоры на всевозможные темы. Ох и любопытный был этот корреспондентик. Иногда использовались слова и выражения, которые Галина Степановна вбивала в нас кувалдой. После этого они залегали в памяти глубоко и надолго.
И вот как-то утром, когда я проснулся от очередного кукареканья, я поднялся на мостик. Увидев на мостике американца, тупо уставившегося в лобовое стекло, я подошёл к нему.
Судно было основательное, ледового класса, мощное. Моряки эти суда между собой называли «морковками». Оно имело два мощнейших дизеля. Но мы пока шли только на одном, чтобы было экономичнее.
Приближались к Алеутам. Штормило, было пять-шесть баллов, но качки практически не ощущалось из-за солидных размеров нашего судна. Длиной оно было около 180 метров.
Не выдержав тишины мостика, я обратился к корреспонденту:
– Майкл, вы живете в каюте прямо надо мной. Я – старший механик, если вы помните.
Тот утвердительно кивнул головой. Мы уже с ним неоднократно вели различные беседы на различные темы, в которых то он поправлял мой английский, то я – его русский.
Поэтому, убедившись, что он меня понимает и слушает, я продолжал:
– Вас по ночам ничего не тревожит?
Он с удивлением приподнял брови.
– Потому что расположение вашей каюты примерно такое же, как и моей, – продолжал я. – И туалет, и ванная комната у вас находятся там же, где и у меня.
– Правда? А я и не знал об этом. Значит, мы по-настоящему соседи? – он изобразил искусственную улыбку на лице.
– Конечно соседи, – не обращая внимания на его эмоции, продолжал я, – даже и вентиляция из туалета и ванной у нас с вами одна. Так я вот о чём хочу спросить тебя, – мялся я: как бы корректнее задать свой вопрос? – Из вентиляции у тебя кукареканья не слышно?
Корреспондент широко открыл глаза, и они у него округлились до состояния бейсбольного мяча. Он посмотрел на меня с удивлением:
– Нет, ты знаешь, у меня в туалете ничего не кукарекает, может быть, тебе это послышалось?
– Да нет, – пожал я плечами, – ночью, то ли в четыре, то ли в пять часов, там что-то начинает кукарекать.
– Нет, – решительно, по-русски отмел он все мои сомнения, – у меня в туалете ничего не кукарекает.
Когда я узнал, что у него ничего в каюте не кукарекает, я вернулся к себе. Через полчаса забегает ко мне капитан:
– Дед, ты что, совсем сдурел, что ли! Ты что к этому американцу пристал? Он вообще думает, что у тебя крыша поехала, потому что у тебя там где-то ночью что-то кукарекает.
– Ты знаешь, Владимир Иванович, а оно и в самом деле кукарекает, – попытался я объяснить ситуацию возбуждённому капитану.
– Да не может быть, чтобы кукарекало, – напирал он на меня.
– Хорошо, – я поднял перед собой ладонь, чтобы успокоить возбуждённость капитана, – тогда я приглашаю тебя на концерт этого кукареканья, – а потом уже спокойнее добавил, – давай, приходи, посидим, послушаем. Ну, часика через полтора и приходи, – я посмотрел на часы. – Придёшь? – я вновь вопросительно глянул в его возмущённые глаза.
Капитан, немного успокоившись от моих заверений, развернулся и вышел из каюты.