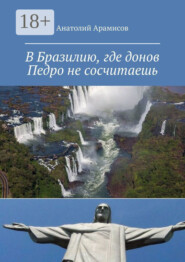По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Короли умирают последними
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ладно, ты подумай до утра. Может, решишься?
– Нет, я не могу.
– Как хочешь. Те, что работают со мной, тоже против. Лишь один земляк из Кладно готов помочь, закидает шлаком. А там посмотрим. Быть может, дева Мария не оставит меня… Спим!
Утром после развода и завтрака, улучшив свободную минуту, Соколов тихо спросил Якова:
– Что, на побег подбивал?
– Да…
– Правильно, что не согласился. Безнадежное дело. Даже если убежит в лес, куда он дальше пойдет? Везде австрияки, до Чехии далеко. Поймают, как пить дать!
Но Бонаревиц на самом деле сбежал. На долгие восемнадцать дней.
В лагере поднялся страшный переполох, когда на вечерней поверке обнаружилась пропажа узника номер 19061. Эсэсовец с размаху заехал кулаком в лицо Тарасу. Украинский капо, обливаясь кровью, тяжело упал перед строем. Все девять человек, работавшие вместе с чехом на загрузке шлака, на следующее утро были расстреляны. К счастью, эсэсовцы на этом остановились. Каждый следующий день, не приносивший никаких вестей о поимке смелого чеха, приносил тайную радость узникам. Яков уже начал жалеть, что не решился на побег, как на 19-й день по Маутхаузену стремительно разнеслась весть: Бонаревица поймали! Уже в полусотне километров от лагеря он нарвался на патруль и не смог убежать.
Срочно было объявлено всеобщее построение. На аппельплатц ввели Ганса. Вид его был ужасен. Растрепанные грязные волосы, безумные глаза, разбитые губы шептали какие-то слова. Он едва ковылял, сильно прихрамывая на правую ногу. Старостам каждого барака немцы выдали по странному шлангу, напоминающему огромный половой член. В строю зашептались: «Будут бить быком…»
Яков с недоумением обернулся на Соколова. Тот кивнул и едва слышно проговорил:
– Да, это специально обработанный бычий член. Лупит посильнее любой плетки и больнее дубинки.
Два «видных деятеля» тащили под мышки беглеца, а старосты по разу били бычьим шлангом. С каждым ударом Ганс громко и жалобно вскрикивал, все ниже опускал голову. Все думали, что его тотчас расстреляют или повесят перед строем. Но нет. Чеха оставили жить еще на неделю. И каждое утро возили на небольшой коляске, привязанного за руки к бортам. На груди болталась табличка: «Hurra, я существую снова!», и еще одна, в районе колен: «Почему блуждаю вдаль, если имущество все же так близко?»
За коляской с беглецом следовал музыкальный оркестр из заключенных, наяривавший самые веселые марши. Особенно часто музыканты играли популярный довоенный шлягер под названием «Я снова возвращаю моего любимого».
Это было необычно, и даже интересно в первый день. Но невыносимо на пятый, шестой и седьмой. Соколов опускал голову, пряча взгляд, полный ненависти, сжимал кулаки. Штейман тоже старался не смотреть. Изуродованное тело чеха, в котором каким-то чудом теплилась жизнь, сильно пахло испражнениями. Наконец, спустя неделю после поимки, беглеца торжественно повесили.
«Матерь Божья… ты сжалилась надо мною… спасибо…» – слабо шевельнулось в голове чеха, он поднял глаза, встретился взглядом с Яковом и – улыбнулся! Он теперь – свободен! Хотя бы от этих мук, а что там за занавесом Смерти – станет надеяться на лучшее!
Штейману стало плохо, когда голова Ганса задергалась в конвульсиях, перекосило рот и закатились глаза. Оркестр оборвал веселую мелодию. На аппельплатц воцарилась мертвая тишина…
От группы эсэсовцев, наблюдавших за казнью, отделился офицер. Это был комендант лагеря Маутхаузен штандартенфюрер СС Франц Цирайс. Среднего роста, плотный, короткая стрижка. Его лицо, обычно не выражающее никаких эмоций, сейчас излучало решимость, губы были плотно сжаты, глаза прищурены. Хозяин тысяч жизней медленно прошелся вдоль строя. Вправо от виселицы. Пятьдесят метров. Повернулся. Еще влево. Сто метров вдоль строя. Его колючие глаза ледяными снежинками врезались в души несчастных. Как будто люди чувствовали ветер от взмаха косы проклятой, костлявой… Все покорно опустили глаза вниз, ожидая неминуемого приношения ей новой дани.
Но Цирайс молчал. Потом, повернувшись к своим помощникам, коротко отдал какой-то приказ. И тотчас над аппельплатцем проревел голос быкоподобного Отто Бахмайера, заместителя Цирайса, начальника отдела безопасности Маутхаузена:
– Всем баракам! В колонну по одному! Пройти под этой чешской свиньёй! (он указал на тело Бонаревица), коснувшись своим рылом его ног! Ферштейн?! Поняли?! За уклонение в сторону – расстрел! На месте – шагом марш! Первый барак – форверст! Вперед!
Тысячи пар глаз в эту секунду были обращены на грязные, в кровоподтеках и гное, с вырванными ногтями ноги беглеца. Они как раз находились на уровне лиц многих людей. И колонна медленно пошла. И не было ни одного человека, который бы уклонился от страшных, зловонных ступней Бонаревица.
Все хотели жить.
Сара Штейн
…«Пошла прочь, сучка… Пошла прочь, сучка… Пошла прочь, сучка!» – звенело в голове девушки одновременно с жалобной капитуляцией стекол ювелирного магазина отца. Она стояла, прижав обе руки к груди, не могла пошевелиться, словно застыла каменной статуей, глядя на ужас, творившийся рядом. Она не верила своим глазам. Ей хотелось закричать на весь мир, что всё это – привиделось! Что слова, слетевшие с губ вот этого молодого человека в военной форме – не его слова, а чьи-то чужие, из кошмарного сна, из небытия!
Курт, её Курт, что когда-то клялся в вечной любви, осыпал её лицо тысячами поцелуев, сейчас с остервенелой физиономией хватает золотые цепочки и браслеты с витрины их ювелирного магазина! Что десятилетиями создавался её дедом, а потом сохранялся всей семьей! Как в замедленной съемке, перед глазами девушки проплывали сцены унижения отца, потом ярость старшего Вебера, его тяжелое падение на мостовую Фридрихштрассе; издевательства юнцов со свастикой на рукавах, похотливые взгляды этих парней, отчаянный крик Эммы, матери Курта, её мольбы не трогать мужчин, тарахтение мотора машины, суетливые движения подчиненных бывшего ухажера, с трудом запихнувших грузные тела Герхарда и Исайя. И удаляющуюся спину объекта её тайных девичьих грез…
Она еще долго бы стояла на ступеньках подъезда, но когда шум и крики стихли, вышедшая из квартиры заплаканная мать взяла её за руку и почти силой потянула домой:
– Идем, моя Сарочка, идем моя милая… идем… – она внимательно заглядывала в глаза дочери. – Не переживай ты так из-за Вебера, я тебе сколько раз говорила, что он не пара тебе, и никогда не должен стать твоим мужем, сто раз говорила… а ты меня не слушала, глупая. Ничего, всё образуется, вот увидишь!
Внутри девушки слабо вспыхнуло и медленно погасло привычное возмущение. Мать часто произносила эти обидные слова. Сара Штейн была унижена и разбита.
Но беда не приходит одна.
Едва кончилась «хрустальная ночь», как мать и дочь вместе отправились на поиска Исайя Штейна. Сначала они зашли в полицейский участок. Но сидевший за столом офицер, выслушав сбивчивую речь евреек, лишь равнодушно зевнул и отмахнулся:
– Не знаю никакого Исайя! Ищите в другом месте.
– Где искать, подскажите, пожалуйста! – дрожащим голосом спросила Дора Штейн.
– Пошла прочь, жидовка!! Пока я тебя в карцер не посадил!! – вдруг заорал немец и подскочил, словно ужаленный. Цвет его лица стал похож на повязку со свастикой. У Доры задрожали губы. Она молча повернулась и медленно пошла на выход. Кожа лица – как мел. На ступеньках женщина покачнулась и упала бы вниз, не подхвати её Сара под локоть.
– За что? За что? – тихо прошептала Дора, села на грязную ступеньку, и, закрыв лицо ладонями, тихо заплакала.
Они так и не нашли своего отца и мужа. Зловещий 1938-й подходил к завершению. Над Германием пронесся вихрь тайных арестов. Люди пропадали без вести, и лишь немногим удавалось обнаружить своих близких. По стране ходили слухи о каких-то концлагерях на юге Германии и в горах Австрии, где всплывали сведения об исчезнувших. Шепотом произносились названия «Дахау», «Бухенвальд», «Заксенхаузен».
А тем временем власти законодательным образом начали прессовать еврейское население. 16 ноября 1938 года дети соседей Штейнов, девочки-близнецы Гольдберги вернулись утром из школы с заплаканными глазами.
– Что случилось? Почему так рано? – удивилась их мать, Бэла.
– Нас не пустили в класс! – угрюмо произнесла одна из девочек. – Сказали, что вчера фюрер принял закон, запрещающий еврейским детям учиться в школе.
Весть мгновенно разнеслась по дому.
Но это было только начало.
28 ноября 1938 года еврейское население Германии ждал новый удар. Вышел новый закон об ограничении жилой площади на лиц данной национальности. Тех, кто имел несчастье иметь большее количество квадратных метров, чем положено по этому закону, ждало неминуемое выселение из домов и квартир.
Все замерли в тревожном ожидании.
1 декабря возле дома, где жили Штейны, снова зацокали по булыжной мостовой подкованные железом сапоги штурмовиков. Сара выглянула в окно. Взвод под командованием Курта! Он прекрасно знал, у кого в доме много комнат и «излишков» жилой площади! Сердце девушки забилось вдвое быстрее обычного.
«Неужели Курт дойдет до такой низости? Вот он, красавец мужчина, в начищенных до блеска сапогах, неторопливо дает команды своим солдатам. Грузовики сзади штурмовиков! Зачем? Грузить вещи несчастных людей? И везти их? Куда? Неужели и нас с мамой?»
В эту секунду Курт поднял голову и увидел в окне побледневшее лицо Сары. Он чуть вздрогнул и нахмурился. Девушка не отводила пристального взгляда. Они с минуту смотрели друг другу в глаза. Наконец, ефрейтор повернул голову в сторону застывшего в ожидании команд отряда.
– Квартиры номер 4, 9, 12, 13! Очистить от жидов, мебели и разного барахла! В случае сопротивления стрелять на поражение! Выполнять!
Это был незабываемый кошмар.
Сара вспоминала его обрывками. И каждый раз, когда перед лицом вставало окровавленное лицо её матери, вздрагивала, вытирала ладонью непроизвольно катившиеся по щекам слезы.
Первыми жертвами штурмовой группы стали Гольдберги. Из окон вылетали горшочки с цветами, что годами заботливо выращивала Бэла; кряхтя от натуги, солдаты выволакивали шкафы, кровати, столы. Девочки-близняшки беспрерывно кричали.
Перед подъездом с каменным лицом стоял Курт Вебер и не решался поднять голову. Он чувствовал, что Сара не отводит взгляда, ему хотелось выхватить из кобуры парабеллум и разрядить его в бледный силуэт лица бывшей возлюбленной, резко выделявшийся на фоне красивых вьющихся черных волос.