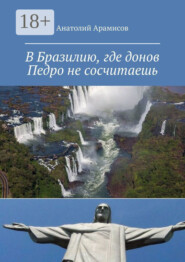По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Короли умирают последними
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Курт Вебер
Я никогда не был особо сентиментальным. В последние месяцы душа моя огрубела еще более. Я бы сказал точнее – она закалилась. Дел для нас, настоящих мужчин, что служили Великой Германии – хватало. После похода в Чехию, эту славянскую дыру, где местные недочеловеки посмели притеснять настоящих арийцев, наступило небольшое безвременье. В смысле славных подвигов, что войдут в будущие учебники по истории.
Но мы не теряли времени даром.
Шесть дней в неделю прилежно занимались боевой подготовкой. Наша рота, которой командует штурмфюрер Отто Винцель, постигала премудрости уличного боя, мы отрабатывали поведение в экстремальных ситуациях, действия в ночных условиях. Однажды командир повез нас за город, куда-то на север, к большим озерам. Те покрылись тонким слоем льда после ночных ноябрьских морозов. И надо же – придумал испытание! По команде разделись до трусов. Нужно было нырнуть в одну прорубь, проплыть под водой метров десять, вынырнуть в другой проруби. Тут же на берегу нас ждала кружка чистого спирта с поджаренными баварскими колбасками. Превосходно!
Ребята в первый момент немного струсили, но практически все взяли себя в руки и выполнили приказ. Я нырнул пятым, вдохнув побольше воздуха. Тело кололи тысячи иголок холода, но что это для истинных арийцев, верных воинов фюрера!? Несколько энергичных гребков, и вот уже – светлое пятно спасительной проруби! Спирт обжег глотку, разлил тепло по всему телу. Мы быстро оделись, стояли на берегу и гоготали. Как прошедшие огонь и воду! Пару человек оплошали. Особенно тот хлюпик из Лейпцига, как его? А, да… Генрих Гойн. Его называли в роте – Гейне. Любит стишки этого рифмоплета. Слабак. Начал рано выныривать и стукнулся башкой о лед. Из проруби пошли пузыри, чуть не утонул, кретин. Со второй попытки проломил третью прорубь, за два метра до финишной. Мы загоготали еще сильнее, спирт уже бил в мозг, разливал радость по всему телу.
Вернулись в казарму, долго обсуждали приключение на озере. Многие советовали Генриху собрать вещички, топать на трамвайчик до Хауптбанхофа*, сесть на поезд и – домой к мамочке в Лейпциг.
Карл Мюллер особенно хорошо пошутил:
– А там, экскурсоводом в картинную галерею! Будешь рассказывать выжившим жидам о достоинствах полотен художников эпохи Возрождения!
Гоготали.
Но больше всего мне нравится стрелять. Люблю «Шмайсер». Модель МП-38. Когда короткими очередями кладешь фанерные мишени. Из парабеллума сначала не нравилось, потом попривык. Гранаты когда бросаем – охватывает азарт! Огневая подготовка – четыре дня в неделю. Только в среду и субботу не ездим на полигон-стрельбище. Ну, и в воскресенье, день отдыха, естественно. В выходной мы гуляем по Берлину, кое-кто из нас любит заглядывать в бордели, если позволяют финансы. Платят пока не много, если честно. Но мы еще возьмем все богатства мира!
После 7 ноября, когда этот жидовский ублюдок застрелил нашего секретаря посольства в Париже, началось, наконец, настоящее дело. Немецкий народ был справедливо возмущен! Эти евреи давно нарывались! Терпение фюрера было колоссальным, но и оно – небеспредельное!
В ночь на 8 ноября получили приказ из рейхстага, я наблюдал, как примчался посыльный с бумагой.
Такие конверты, что поступали сверху, я еще видел во время Олимпиады 36-го. Штурмфюрер вскрыл срочную почту, прочел несколько строк, и спустя десять минут наша рота стояла перед казармой в полной боевой выкладке.
И – понеслось!
С раннего утра громили жидовские лавки. Список был заготовлен заранее, еще месяца за три до нашей «Хрустальной ночи». Как они цеплялись за свои вещички! Жадности евреев поистине нет предела. Мой фатер всю жизнь горбатился на шахтах, но не нажил и десятой доли того, что я видел в этот прекрасный день. День, когда мы делали Историю! В одном месте старый пархатый жид буквально висел у меня на руках, отбирая увесистые батоны копченой колбасы. Мы выбрасывали их на улицу, там уже вовсю веселились голодные собаки. Когда жид оцарапал мне палец, вытащил парабеллум и врезал рукояткой по лысине. Отпал сразу. Потом меня осенило: в таких лавках мы вряд ли заработаем на шлюх Курфюрстендамм! И я сразу вспомнил соседа, ювелира Штейна!
Подчиненные потом меня благодарили – отлично поживились! Поменяли золотишко на рейхсмарки – теперь многим хватит погулять минимум до Нового года. У меня, правда, остался осадок. Из-за этой Сары Штейн и моего папаши. Нашел кого защищать, старый идиот! Сару, если честно, немного жаль было. Я признался себе в этом, истинный ариец должен быть чист перед собою. Ночью в казарме вспоминал её. Хотел, было по юношеской привычке поработать под одеялом кулачком, но вовремя остановил себя. Недостойны арийца такие мысли, как правильно заметил фюрер! Хорошо, что была как раз суббота, на следующий день ласкался с хорошенькой немкой в борделе возле станции Berlin Zoo. И всё же никак не могу отделаться от тайной мысли когда-нибудь узнать Сару как женщину. Как вспомню её груди… тогда… и гладкую кожу… Я был близок к цели! Мысленно я изнасиловал эту еврейку уже десятки раз. Как будто наяву вижу её запрокинутую голову, черные кудри, рассыпавшиеся по подушке, и чувствую сопротивляющуюся горячую плоть, бьющуюся подо мною, как рыба на крючке. Прочь, прочь эти мысли, не достойные арийца! Хорошо, что никто в роте не заметил моего состояния. Значит, я научился прекрасно владеть собой!
Папашу забрали в гестапо. Вместе с этим евреем, Исайей Штейном. Наш штурмфюрер сдал их дежурному, а там уж позаботятся о том, чтобы прочистить старым пердунам мозги. Они не понимают – их время уже прошло! А наше, новое, Великое – только наступает!
Пошли отличные новости. Еврейским детям запретили посещать государственные школы, а чуть позже молодых жидов и жидовок выгнали из университетов. Отлично, мой фюрер! Эти зубрилки занимали столько мест. Моего друга Карла Мюллера профессор жид специально провалил на экзамене по философии в Кельнский университет. А то бы сейчас учился там вместе с этой Сарой. Впрочем, её уже должны выгнать оттуда, эту гордячку. Тоже мне – знаток философии Канта! Все эти философии скоро будут навсегда похоронены на свалке истории. Вместе с их проповедниками!
28 ноября.
Новый замечательный приказ фюрера. И мужская работа для моего взвода. Идем уплотнять евреев. Больше десяти квадратных метров на человека – извольте освободить помещение! С кого начнем-с? Да с нашего дома, конечно! Я там знаю кровососов, что занимают огромные квартиры, а соседи немцы ютятся в узких комнатках. Будет много визга, соплей, слез. Жаловаться на жизнь они умеют как никакая другая нация. Сейчас построю взвод, поставлю задачи на сегодняшний день.
Некоторое сомнение в глазах отдельных мягкотелых рядовых. Вижу, как сморщился наш поэт. Вызывает он у меня подозрения, с каждым днем всё больше. Настроить на необходимую жестокость! Твердость, твердость и еще раз твердость! Только так! Иначе нам врагов не одолеть. Никакой жалости, никакой пощады! Когда они сосали кровь из нашего народа в конце двадцатых, им не было жалко немецких голодающих детей! Фюрер поднял всех на борьбу, и мы должны быть достойными его великих идей! Какое наслаждение видеть, как несколько десятков бравых солдат синхронно исполняют твои команды!
Раз! Нале-во! Шааа-гом марш!
И четкое, синхронное клацанье металлических набоек по булыжной мостовой. Прелестная музыка для настоящих мужчин! Раз-два! Раз-два! Раз-два! Левой! Левой! Взвоооо-од! Стой! Пришли. Грузовики подъехали, можно начинать.
Сука! Смотрит снова на меня в окно. Хочет разжалобить? Нет, я уже не тот Курт Вебер, что слюнявым юношей целовал ее губы. Никаких сантиментов! Командую, называю номера жидовских квартир. Топот сапог по лестнице подъезда. Первые жалобные крики.
Смотрит по-прежнему. Хочется вытащить парабеллум и выстрелить в знакомое окно. Она не понимает, что когда мужчины выполняют приказ, боевую задачу, они звереют.
Нет! Пока не хватает, видимо, мне железной выдержки истинного арийца! Услышал знакомый голос мамаши Штейнов. Похоже, кто-то из ребят решил завалить Сару на кровать, а Дора вмешалась. Мгновенное чувство ревности, укол совести – той неосязаемой субстанции, что наш фюрер как-то раз назвал химерой. Мы совестливы, а они? Никогда и ни при каких обстоятельствах! У евреев только одна совесть – личная выгода. И всё!!
Черт! Там, видимо, без трупов сегодня не обойдется. Карл Мюллер выскочил из дома как ошпаренный. Что с ним? Отошел за грузовик, как будто блюет. Убил? Подойду, спрошу.
Ах, вот оно в чем дело! Сара тащит мамашу, у той разбита голова, вся в крови. Меня не замечает. Какое-то странное чувство плещется внутри. Удовлетворение смешалось с жалостью? Или еще чем похуже? С просыпающейся химерой? К черту! Приказ фюрера, мы его обязаны выполнить! Пусть тащит свою мамашу хоть в госпиталь, хоть в синагогу или сразу в морг. Карл вышел из-за грузовика, физиономия скрюченная, как будто лимон съел. Поговорили, постепенно успокоился. Потом я случайно узнал, что Дора откинула копыта в госпитале. К черту жалость! Иначе мы не победим.
Мюллер не зря постарался. Штурмфюрер доложил куда следует, и через неделю родители Карла с его младшими сестрами переехали в наш дом. Такая хорошая квартира, как была у Штейнов – не должна пустовать. Немного сосет зависть – я бы сам с удовольствием занял эти комнаты. Для моей будущей семьи. Ладно, переживу…
А вот и Карл. Легок на помине. Лицо какое-то встревоженное. Что? Ушам своим не верю! Он говорит, что заметил, как та миниатюрная еврейка, что тащила свою мамашу, вошла в квартиру моих родителей? Мать открыла ей дверь и впустила? Она что – с ума сошла? Срочно проверить!
Курт Вебер спрыгнул со своей койки, быстро надел сапоги, мундир и спустя полчаса входил в родной подъезд. Постучал в дверь, три быстрых удара, пауза, еще удар костяшками о дерево. Как он привык со школьных лет. Пауза. За дверью – тишина. Курт вполголоса ругнулся и снова постучал. После ссоры с отцом ключи от квартиры он так и не взял.
Послышались тихие шаги. Мать. Лязг замка, дверь открылась, такое знакомое, но очень бледное лицо. Неужели Карл не ошибся?
– Гутен таг, мутти! Добрый день! – по привычке произнес Курт, шагая в прихожую.
– Здравствуй, сынок, – негромко произнесла Эмма.
– Ты одна? – спросил младший Вебер, и, не дожидаясь ответа, прошел в гостиную. Он знал, кого может там увидеть, но все же непроизвольно вздрогнул. Возле стола, опершись правой рукой на спинку стула, стояла Сара Штейн. Мозг мужчины мгновенно выдал автоматический импульс: «Она похорошела!»
Но вместо комплимента Курт, криво усмехнувшись, выдавил:
– О! Какие люди у нас в гостях! Мы их – из дома, а они снова сюда! Как правильно писал фюрер, назойливость – одна из характерный еврейских черт!
*Хауптбанхоф – центральный вокзал Берлина.
Концлагерь Эбензее, март 1945
Дмитрий Пельцер и Лев Каневич лежали в ревире вместе. Учитель из Харькова был еще слаб после происшествия в штольне, он чувствовал, что внутри организма произошло нечто пугающее, неприятное, страшное. Несколько раз в день он тянулся к полотенцу и сплевывал изо рта сгустки крови. Каневич брезгливо косился на соседа, отворачивался в такие минуты к стене. С ними в маленькой палате №21 находились еще двое, с соседнего барака. Одессит Лёня Рубинштейн и бывший председатель колхоза из Латвии Валдис Круминьш. Латыш разговаривал по-русски с сильным акцентом.
В коридоре гремели тарой баландеры. Еда в ревире в сравнении с общим пищеблоком была урезана в два раза. Но здесь было одно главное преимущество – вместо изматывающей организм работы в штольнях можно было целый день лежать на кровати. Запах лекарств вперемежку с какой-то отвратительной вонью пронизывал всё пространство лагерного лазарета. Каневич несколько раз в день открывал форточку, свежий воздух на небольшое время растворял эту вонь, но через полчаса её концентрация восстанавливалась.
– Привыкнешь… – негромко произнес Рубинштейн, наблюдая за Каневичем. – Человек ко всему привыкает.
– Если человек хочет быть свиньей, тогда да! – раздраженно бросил Лев. – Я лично не желаю!
Лёня обиженно поджал губы.
– Ладно тебе, король… – послышался голос Пельцера. – Со своими уж не собачься. Все мы здесь для немцев свиньи.
– Король? – удивленно переспросил Круминьш, приподнявшись с подушки. – Почему король?
– По кочану! – отрезал Каневич.
– В авторитете он, – коротко пояснил Пельцер.
– За какие заслуги? – хмыкнул латыш. – Прибыл в Эбензее с монаршеского трона?
– Заткнись… – глухо проговорил Каневич. – Не твоего ума дело.